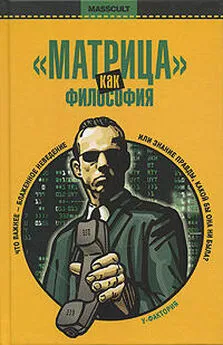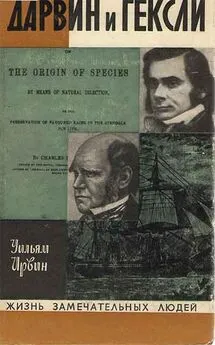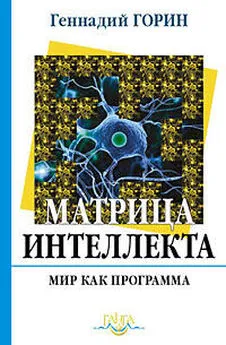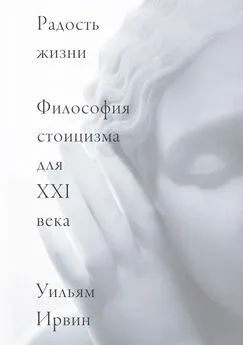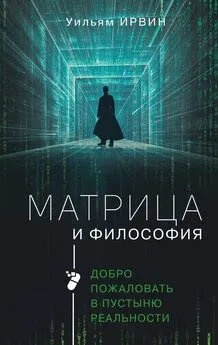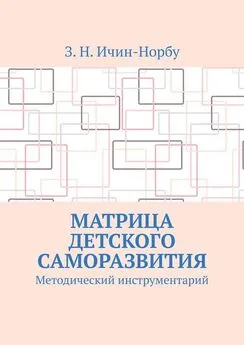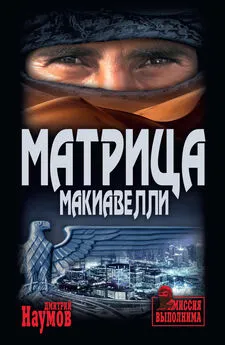Уильям Ирвин - Матрица как философия
- Название:Матрица как философия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:У-Фактория
- Год:2005
- Город:Екатеринбург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Ирвин - Матрица как философия краткое содержание
Фильм «Матрица», вышедший на экраны в 1999 г., неожиданно ввел в поле массовой культуры разнообразные философские вопросы, заставив каждого зрителя потратить некоторое время на обдумывание мировоззренческих проблем. Среди этих зрителей были и преподаватели философии американских университетов, чьи эссе об этических, гносеологических, теологических, метафизических и иных вопросах, поставленных в картине, собраны в этой книге. Кроме того, впервые на русском языке в полном варианте публикуется выступление на конференции, посвященной «Матрице» (Карлсруэ, 1999), выдающегося современного мыслителя Славоя Жижека.
Матрица как философия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Создатели фильма, конечно, прекрасно понимали, какие сложные проблемы влечет за собой это предположение, поэтому добавили в диалоги фильма некоторое количество неуклюжей самокритики. Вспомните беседу о корабельной еде между Маусом и Нео. Во время совместной трапезы Нео узнает, что в XXII веке вне Матрицы еда больше не является удовольствием. Из кранов вываливаются порции питательного одноклеточного протеина, который лестно сравнивается с тарелкой соплей. У Мауса эта субстанция вызывает далекие воспоминания о манной каше. И тогда он задает вопрос: откуда машины, создавшие Матрицу, знают, какова на вкус манная каша? И откуда людям знать, что это похоже на манную кашу, если они никогда ее не пробовали и не могут сравнивать? Как может нечто походить на что-то по вкусу, если нет никаких сведений о том, каково это что-то на вкус?
ОЦЕНИВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Это очень интересные вопросы, но они затрагиваются лишь вскользь, и на них не дается никакого ответа. Наверное, не стоит требовать от фильма исчерпывающего разбора логики иллюзий. Однако встает важный сопутствующий вопрос, рассмотренный более полно: стоит ли жить ради опыта, который не может считаться не только подлинным, но и ценным?
На этот вопрос можно дать два противоположных ответа. Первый — реально и ценно только то, что свободно от созданных Матрицей иллюзий. Хотя в фильме преобладает эта точка зрения (и предполагается, что с ней согласен зритель), существует и другое мнение, на которое нам следует обратить внимание: реально то, что обеспечивает наиболее яркий и приятный опыт. Первый ответ вы получите от Морфеуса и его команды, второй — от Сайфера, предающего своих друзей. Кроме того, второе мнение высказывает преданный и обаятельный Маус, когда оспаривает слова Дозера о том, что съедобная слизь содержит все, что нужно человеческому телу. Нет, возражает Маус, в ней нет удовольствия, чувства, которое он считает одной из основных человеческих реакций: «Отрицать свои желания— это отрицать свою человеческую природу». Дозер относится к его мнению скептически, он явно считает, что наслаждение вкусом — это каприз, который борцы с Матрицей не могут себе позволить.
Подобные диалоги раскрывают концептуальную основу «Матрицы», являясь как следствием принятых в картине допущений, так и приемом самопознания. Фильм рассказывает о пяти чувствах и ценностях, с которыми они соотносятся, в очень интересной и в то же время удивительно традиционной манере, подвергающей радикальный скептицизм проверке сюжетом.
И философы древности, и философские школы наших дней выстраивают иерархию пяти чувств в зависимости от возвышения духа над телом, интеллекта над эмоциями и знания над удовольствием. [51] Krosmeyer C. Making SenseofTasfc: Food and Philosophy. Ithaca, 1999. Ch. 1.
Зрение и слух — это «периферические» (или дистанционные) чувства, так как действуют на расстоянии от своих объектов и не требуют физического взаимодействия с ними. Расстояние создает выгодную эпистемологическую позицию, поэтому зрение и слух обычно ставят на вершину иерархии из-за их важности для получения знаний об окружающем мире и передачи этих знаний другим людям. Так как они требуют разделения между телом воспринимающего и объектом восприятия, зрение и слух также меньше зависят от физических ощущений. (Фактически, зрение обычно считается восприятием, а не ощущением.) Так называемые телесные чувства вкуса, обоняния и осязания требуют физического контакта с объектом. Хотя обоняние и предполагает некоторое физическое удаление объекта, всем трем чувствам необходима близость объекта, даже соприкосновение, и опыт всех трех чувств имеет выраженную чувственную окраску. Традиционно считается, что они имеют отношение скорее к нашим субъективным ощущениям, чем к объектам, как из-за ограниченности доставляемой информации, так и потому, что мы склонны отвлекаться на удовольствия, которые они предоставляют. Физиология, связанная с осязанием, обонянием и вкусом, является причиной низкого статуса телесных чувств, ассоциируемых с животной стороной человеческой натуры.
ЧУВСТВА В МАТРИЦЕ И В «МАТРИЦЕ»
Естественно, что зрение и слух широко используются в фильме. Хотя мы и не можем потрогать, понюхать или попробовать на вкус объекты, которые видим на экране, мы точно можем видеть и слышать их, и что-то из того, что мы видим на экране, видят и герои; это дает нам возможность как бы разделять их опыт. Диалоги о зрении и глазах привычно двусмысленны: то, что видит человек, может быть лишь иллюзией, создаваемой программой, в то же время слово «видеть» синонимично с выражениями «представлять себе», «понимать» и «узнавать», так как зрение на протяжении всей истории западной философии служило метафорой разума. [52] С этой целью используется множество «чувственных» метафор: «Я вас слышу», «Я уловил идею» и т. д. Но зрение сыграло особенно заметную роль а эпистемологическом языке. См.: Jay M. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentielh-Century French Thought. Berkeley; Los Angeles. 1993.
Мудрый лидер Морфеус использует для своих предостережений и наблюдений зрительные метафоры. К примеру, он сообщает Нео о том, что тот был рожден в тюрьме, которую нельзя понюхать, потрогать или попробовать на вкус, «в темнице для разума». Но Нео видит ее повсюду. По словам Морфеуса, мир Матрицы «был поставлен перед твоими глазами, чтобы заслонить правду… правду о том, что ты раб, Нео». И все же, несмотря на тотальный зрительный обман, порождаемый Матрицей, Морфеус советует Нео использовать глаза по их высшему эпистемологическому предназначению: чтобы видеть сквозь иллюзию правды, понимать. После освобождения из кокона с розовым гелем Нео задает вопрос: «Почему у меня болят глаза?» «Ты раньше никогда ими не пользовался», — отвечает Морфеус. Как и платоновского узника пещеры, Нео беспокоит свет, поскольку правду видеть нелегко и неудобно. Морфеус рассказывает, как он узнал о том, что человеческие тела выращивают, чтобы питать энергией разумные машины Матрицы: «Я очень долго не мог в это поверить, пока не увидел все собственными глазами». Зрение больше, чем любое другое чувство, славится своей явной связью с разумом. Как гласит старая поговорка, увидеть — значит поверить. В то же время зрение может являть нам галлюцинации, следовательно, в нем можно усомниться, и тогда мы вспоминаем вторую часть афоризма: увидеть — значит поверить, но прикоснуться — значит узнать правду. Это не означает, что осязание невозможно обмануть (это, очевидно, не так). И все же мы можем понять, что перед нами галлюцинация или мираж, когда рука проходит сквозь объект, не почувствовав прикосновения. Поэтому в народной психологии и в «Матрице» физическое прикосновение обычно считается надежнее дистанционного чувства зрения. Интересно, что эти ценности находятся в противоречии с кинематографическим материалом, в котором практически постоянно используются «периферические» чувства.
Интервал:
Закладка: