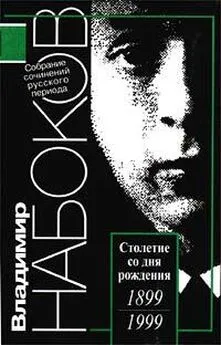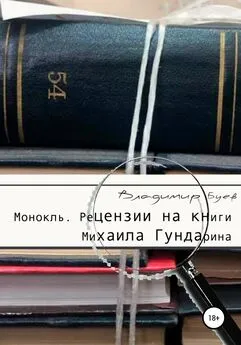Владимир Набоков - Эссе и рецензии
- Название:Эссе и рецензии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО IDDK
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Набоков - Эссе и рецензии краткое содержание
Здесь собраны эссе и рецензии с диска "ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ" выпущенного в 2005 году. Во избежание повторов, эссе, уже сожержащиеся в книгах "Набоков о Набокове и прочем. Рецензии, эссе" и "Лекции о Русской литературе. Приложение", были безжалостно удалены. Кроме того добавлены две заметки, найденных на сайте lib.rus.ec (Памяти "А.О. Фондаминской" и "Писатели и эпоха"). Обложка выбрана случайно (просто знаю, что это хорошее издание)
Эссе и рецензии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впечатление чего-то неточного, непроверенного оставляют и некоторые другие образы в книге. Так, прочтя фразу о женщине, которая “с орошенным кровью лицом шагнула назад”, или о женщине, у которой лицо “заливалось малиновым сиропом”, бесхитростные могут подумать, что в первом случае речь идет об опасном ранении, а во втором о кухонной катастрофе. На самом же деле это только два изысканных способа сказать, что человек покраснел.
Надо, однако, признать, что не всегда г-жа Даманская следует по линии наименьшего сопротивления, не всегда заставляет человека с лицом, перекошенным таинственным страданием, оказываться скрывающимся от суда преступником… Когда автор описывает свой переход через русскую границу или любовь дворника-менестреля, который “министрелил” на балалайке и так “разминистрелился” с горничной Дашей, что жена насилу его отвоевала, — всюду попадается живописный штрих, меткое наблюдение, — и все это легко, без нажима пера. Простой, описательный рассказ, основанный на действительной жизни, — вот настоящая область г-жи Даманской.
1929 КУПРИН. “ЕЛАНЬ” (РАССКАЗЫ)
“Русская библиотека”. Белград
(Впервые: “Руль”, 23 октября 1929.)
“…В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмыливаются. Относится это отчасти и к караковым и к игреневым…” Как прекрасно, когда у большого писателя есть страсть к чему-нибудь. Обо всем он пишет превосходно, но есть на свете нечто, о чем он особенно хорошо пишет. Зрение и нюх, всегда обостренные у писателя, доходят тогда до предельной проникновенности, и обычный уровень писательской наблюдательности сразу повышается, ибо тут постоянная творческая зоркость облагораживается опытом знатока. Сам Куприн отмечает, что, когда русский человек говорит о своем привычном и любимом деле, поражаешься точности и чистоте языка, сжатой свободе речи и легкой послушности необходимых слов. Когда же не просто русский человек, а русский писатель, получивший от Бога щедрый дар, говорит о том, что он знает и любит, о безысходном в своей нежности и странности влечении, — тогда можете себе представить, какая у него точность и чистота выражений, как волнуют его слова. Так пишет Куприн о прелести лошади, о ее горячем сильном дыхании и чудесном запахе, и, читая этот первый рассказ в сборнике, так и ощущаешь все время под губами теплую, шелковую лошадиную кожу, нежную, ни с чем несравнимую впадину над ноздрей. Чего стоит, например, вот это: “От множества причин еще может зависеть неуспех бега: лошади нездоровилось, а этого не успели доглядеть, проснулась в дурном настроении, видела, может быть, дурной сон”. И сразу наше воображение зажжено упоминанием о сне, который, может быть, видела лошадь, и поневоле чувствуешь, что Куприн даже и это знает — сон лошади, и такое знание для него столь же легкое и естественное, как знание лошадиных мастей. Но безысходность… Куда деть, и как писателю самому себе объяснить волнение, страсть… Ведь человек в данном случае создан как будто только для того, чтобы писать книги и писать их прекрасно, а он “всю жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей”. Руссо мнил себя ботаником (кстати сказать, ботаником он был прескверным, но писал о растениях с большим подъемом); очень возможно, что Куприн, отказавшись от писания книг, был бы прекрасным тренировщиком лошадей, но потеря для русской литературы была бы огромная.
В этом небольшом сборнике есть рассказы не только о лошадях, но и о собаках, о цирке, о волшебной скрипке, о ковре-самолете. Все они, конечно, очень купринские. Талант автора так и прыщет из каждой, даже неряшливой, строки; однако почему-то сдается, что иные страницы являются просто быстрыми записями, просто материалом, — живым и богатым материалом, — для более гармонических и строгих трудов.
Но грех пенять, — очень все-таки хорошо, очень хорошо.
1930 АНКЕТА О ПРУСТЕ
(Впервые: “Числа”, Париж, 1930, № 1, с. 274.)
Редакция “Чисел” обратилась к ряду писателей с просьбой ответить на следующую анкету:
1) Считаете ли Вы Пруста крупнейшим выразителем нашей эпохи?
2) Видите ли в современной жизни героев и атмосферу его эпопеи?
3) Считаете ли, что особенности Прустовского мира, его метод наблюдения, его духовный опыт и его стиль должны оказать решающее влияние на мировую литературу ближайшего будущего, в частности на русскую?
1) Мне кажется, что судить об этом невозможно: эпоха никогда не бывает “нашей”. Мне неизвестно, в какую эпоху будущий историк нас ухлопает и какие найдет для нее приметы. К приметам, находимым современниками, я отношусь подозрительно.
2) Опять же, — мне трудно вообразить “современную” жизнь. Всякая страна живет по-своему, и всякий человек — по-своему. Но есть кое-что вечное. Изображение этого вечного только и ценно. Прустовские люди жили всегда и везде.
3) Литературное влияние — темная и смутная вещь. Можно себе, например, представить двух писателей, А и В, совершенно разных, но находящихся оба под некоторым, очень субъективным, влиянием Пруста; это влияние читателю С незаметно, так как каждый из трех (А, В и С) воспринял Пруста по-своему. Бывает, что писатель влияет косвенно, через другого, или же происходит какая-нибудь сложная смесь влияний и т. д. Предвидеть что-нибудь в этом направлении нельзя.
1930 НА КРАСНЫХ ЛАПКАХ
(Впервые: “Руль”, 29 января 1930.)
Пушкина немало насмешил тот злополучный критик, который по поводу строк “На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод…” глубокомысленно заметил, что на красных лапках далеко не уплывешь. Увы! С этим зоилом чрезвычайно схож по складу и направлению мыслей некий Алексей Эйснер, напечатавший в последнем номере журнала “Воля России” забавную своей молодой заносчивостью статью, в которой он силится доказать, что Бунин — не поэт, что стихи у него плохие, безграмотные, бедные по форме и по содержанию и никуда вообще негодные. Начинает Эйснер с того, что он удивляется, почему так хвалили бунинские стихи Степун, Ходасевич, Тэффи и нижеподписавшийся. Ничто не пропадает зря: особенно больно задело Эйснера именно место в моей рецензии, которое и было рассчитано, чтобы потревожить самодовольство любителей “современности”, совершенно неспособных понять прелесть бунинских стихов. Посетовав на критиков, Эйснер переходит к разоблачениям. Это, оказывается, очень просто. Берется, скажем, бунинская строка “назад идет весь небосвод” и для большей наглядности подается в таком виде: “назад идет весне босвод”. Не говоря уже о том, что надо иметь уши Эйснера, чтобы расслышать эту “весну”, могу ему предложить посетить со мной сады русской поэзии и нарвать у любого поэта таких же безобидных цветочков. Оттого, что в тютчевских строках (беру первый попавшийся пример) “с горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам” скрывается какое-то “рыбе” и какое-то “сунем”, которые я и представляю отыскать читателю под руководством Эйснера, эти строки все же не лишены поэзии (да и незачем так далеко идти: обратимся опять к стиху “задумав плыть по лону вод”… “ну вот”). Но особенно Эйснер обижается на то, что Бунин употребляет слова ему, Эйснеру, неизвестные. К таковым, например, относится “дробный” (“дробный ослик”), так отлично передающее и ход ослика, и робость, и беззащитность его, — и какое кому дело, что, по неведению своему, Эйснер в “дробном” усматривает только дроби? Обижается Эйснер и на “астрагал” — растение очень распространенное; напрасно Эйснер, по завету Достоевского, плоховато знавшего природу, полагает, что “астрагала” ни в каком руководстве нет: найти его можно просто в словаре русского языка; один из видов “астрагала” зовется розгой. Бьюсь об заклад, что Эйснер нетвердо знает, что такое и гелиотроп, ибо вместо того, чтобы “увидеть” эти гелиотроповые бунинские молнии (замечательный оттенок лилового!) и услышать грозовый ритм стиха, он ни с того ни с сего вспоминает Игоря Северянина. Самые образные бунинские выражения, как, например, “сплошь темные глаза”, которыми дедушка в молодости смотрел в зеркала, эти “сплошь темные глаза”, в которых особая прелесть старых портретов, с их внимательными, лишенными блеска глазами, почему-то навевают бедному Эйснеру какие-то анатомические кошмары. О бунинских рифмах он самого низкого мнения. Не из желания его смутить, а просто ради восстановления истины, обращаю его внимание на то, что у Бунина рифма богаче, чем, скажем, у Гумилева (который, кстати, тоже рифмовал “гнезда” и “звезды”, что Эйснер считает недопустимым).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: