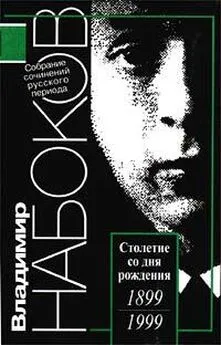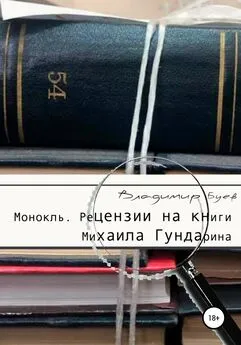Владимир Набоков - Эссе и рецензии
- Название:Эссе и рецензии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО IDDK
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Набоков - Эссе и рецензии краткое содержание
Здесь собраны эссе и рецензии с диска "ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ" выпущенного в 2005 году. Во избежание повторов, эссе, уже сожержащиеся в книгах "Набоков о Набокове и прочем. Рецензии, эссе" и "Лекции о Русской литературе. Приложение", были безжалостно удалены. Кроме того добавлены две заметки, найденных на сайте lib.rus.ec (Памяти "А.О. Фондаминской" и "Писатели и эпоха"). Обложка выбрана случайно (просто знаю, что это хорошее издание)
Эссе и рецензии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1926 БЕНЕДИКТ ДУКЕЛЬСКИЙ
СОНЕТЫ
(Впервые: “Руль”, 3 ноября 1926.)
Мне приходилось видеть сонеты-сороконожки, состоящие из десяти строф; написанные гекзаметром; сонеты, лишенные рифм и размера (иначе говоря, “стихотворенье в прозе”, — очень, кстати сказать, незамысловатая штука: вместо “твои руки” ставишь “руки твои” и вместо “весенняя ночь” — “ночь весенняя”). Авторами этих оригинальных произведений были обыкновенно дамы — или очень юные гимназисты. Я невольно пришел к заключенью, что неопытного поэта прельщает вовсе не форма сонета, а самое слово “сонет” — звонкое, “утонченное”, как говорят в русской провинции. Будь оно покорявее, число людей, пишущих “сонеты”, значительно бы уменьшилось. Все это, однако, не относится к Бенедикту Дукельскому. “Суровый Дант не презирал сонета”. Не презирает его и Дукельский. Сонетная схема рифм, четырнадцать законных строк, ямбический размер — это у него есть. А всего сонетов в книге круглым счетом двести пятьдесят. Об общем настроеньице книги можно уже судить по названьям отделов: “К созвездиям”, “Созвучья”, “При грусти” (“я читаю стихи при грусти”) и тому подобные заклинательные жесты, ничего доброго не предвещающие. Раскрываю книгу наудачу и читаю: “за пережитым днем для лунствующих смен их явность прежняя светяще многолика. Постигнем грусть в словах у сонмов переклика. И круг угаснувший, межзвездный, вожделен… (пропускаю вторую строфу — все равно понятнее не станет, — и цитирую дальше)… и мрачно веще там, как древний Аластор, видение, уж больше так-то сразу. Предчувствуемы лишь медлительные Азы”. Будет? Да. Можно “как-то сразу” сказать, что ни “Аза” лунствующий автор в поэзии не смыслит. Все сонеты в книге — такого же типа.
Безграмотный набор слов, неправильные ударенья, почти полное отсутствие смысла (и какие-то беспомощные клише, когда и есть проблеск мысли!), насилие над цезурой и женской рифмой, — и все это в ореоле какого-то наивнейшего провинциализма — вот что приходится сказать о творчестве Бенедикта Дукельского. Эпиграфом к “Сонетам” взят стих Пушкина “Прекрасное должно быть величаво”. Но должна ли быть величава безграмотная чушь?
1927 СЕРГЕЙ РАФАЛОВИЧ
ТЕРПКИЕ БУДНИ. СИМОН ВОЛХВ.
(Впервые: “Руль”, 19 января 1927.)
Первая из этих двух книг — небольшой сборник приятных, гладких, мелких стихов. Их мягкость порою переходит в слабость, гладкость — в многословие. Для того чтобы сказать, например, что наступили сумерки, вряд ли нужна такая расточительность: “Но день бледнел, бледнел и гас, пока не наступил предсмертный час на склоне дня, на зыбкой грани мрака, тот час, который мы зовем не ночью и не днем, а часом между волком и собакой”. Шесть строк вместо двух слов. Недостатком творчества Сергея Рафаловича нужно признать и склонность к тем общим идеям, которые спокон веков встречаются в стихах, не становясь от этого ни более верными, ни менее ветхими. Сравнивать город с “разодетой проституткой”, утверждать, что люди — это маски, что земля “тупо вертится”, что любовь — “сладчайший и мучительный грех”, все это — дешевый поэтический пессимизм и в смысле творческом — линия наименьшего сопротивления. Зато там и сям меж двух вялых строк встречается у Рафаловича подлинно прекрасный стих, как, например, этот ответ души ее создателю: “ненужной телу я была и, с ним не споря, завернулась, как в белый саван, в два крыла”.
Вторая книжка поэта “Симон Волхв” начинается очень тонко, очень просто, но в дальнейшем — какая-то расплывчатость, слишком гладкая неяркость (такой стих, например, как “в часы тревоги и сомненья, когда грядущее темно”, — просто пустое место, и таких пустых мест в поэме многовато).
Мне хотелось бы попросить Сергея Рафаловича (да и не только его, а большинство современных поэтов) раз и навсегда отказаться от тех мужских “рифм”, которые одинаково противны и слуху и глазу. “Рифма” зари — говорит или судьба — зубах или глаза — сказал — смехотворная хромота и больше ничего.
Сергея Рафаловича нельзя причислить к “молодым, подающим надежду” (его первый сборник вышел в 1901 г.). На кого же надеяться, кого выбрать, что отметить? Не безвкусие же Довида Кнута и не претенциозную прозаичность пресного Оцупа. Может быть, вдохновенную прохладу Ладинского или живость Берберовой? Не знаю. Дай Бог, чтобы годы эмиграции для русской музы не пропали зря.
1927 ДМИТРИЙ КОБЯКОВ, ЕВГЕНИЙ ШАХ
ГОРЕЧЬ (“Птицелов” Париж. 1927). КЕРАМИКА (Там же. 1925)
СЕМЯ НА КАМНЕ (Париж. 1927)
(Впервые: “Руль”, 11 мая 1927.)
Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокочущих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный — чем-то напоминает он Бенедиктова. Вот точно так же темно и пышно Бенедиктов писал о женском телосложенье, о чаше неба, об амазонке.
Восхищаться Пастернаком мудрено: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, а вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Не одно его стихотворенье вызывает у читателя восклицанье: “Экая, ей Богу, чепуха!” Такому поэту страшно подражать. Страшно, например, за Марину Цветаеву. Страшно и за молодого поэта Дм. Кобякова, выпустившего только что два небольших сборника. Книжка “Горечь” открывается посвящением Пастернаку: “Каким просторам открывал? Где намечают поцелуем”. Причем тут дательный падеж, где подлежащее и прямое дополнение — вряд ли знает сам автор. Почти в каждом стихотворенье есть такого рода курьезы. “Когда копьем простая ложка ранит в предсмертном стоне увидавших глаз”. Язык крайне неряшлив. “Не вспомню, зачем и куда я закинул письмо заказное и, кажется, мне”. Мужские рифмы частенько нелепы: стен — тел, чешуи — ширь, любви — просил, еще — слет, саду — задув (последнее особенно мило). От того, что в словах “стен” и “тем” совпадают буквы “т” и “е”, еще не значит, что это совпадение улавливается слухом (а ведь как там ни верти, рифма создана для слуха, а не для глаза). Этак можно дойти до того, чтобы рифмовать “кровь” и, скажем, “ротмистр” (и тут и там “ро”). Несмотря, однако, на эту тягу к искалеченной рифме и к модной неуклюжести стиха, ничуть не лучшей, по своему существу, текучести-певучести бесчисленных маленьких Апухтинов прежних лет, — несмотря на манерную томность выражений и на пастернаковское влияние, Кобякову не удается вконец вытравить поэзию из своих стихов. Хорош, например, пляж (9-е стихотворенье в сборнике “Керамика”), где у “кабинок коричневых черные рты” и “душно в бутылочной зелени вод”. Чрезвычайно удачно третье стихотворенье в том же сборнике: поэт, сидя в таверне, рвется “через дым, через звуки туда, где медленно плыло норвежское судно — на плоских обоях — в пятнистую даль”. Тут, по крайней мере, неясное выражение образно, т. е. ясно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: