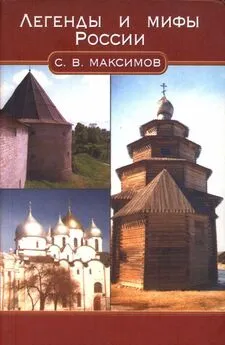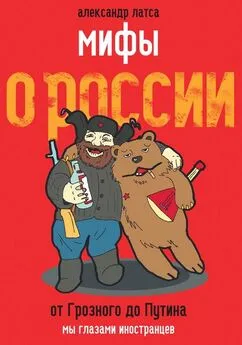Александр Горянин - Мифы о России и дух нации
- Название:Мифы о России и дух нации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Pentagraphic, Ltd
- Год:2001
- ISBN:5-93202-008-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Горянин - Мифы о России и дух нации краткое содержание
Автор убедительно доказывает, что мировосприятие современного российского общества заволокли мифы — то откровенно нелепые, то почти правдоподобные на вид. Многие из этих мифов даже стали частью нашей политической культуры. Общее у них одно: они навязывают нам преуменьшенную самооценку, пониженное самоуважение, подрывают нашу веру в себя, подрывают дух нации. Когда дух нации низок, она подобна организму с разрушенной сопротивляемостью. Когда он высок, никакие трудности не страшны, любые цели достижимы. Автор ставит перед собой задачу разрушить наиболее вредоносные мифы о России. «Пока не будет произведено изгнание этих бесов, страна обречена жить с опущенными руками», утверждает он. Книга адресована всем, кто любит Россию.
Мифы о России и дух нации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На деле, между 19 января и 25 февраля 1730 в московском обществе ходили не 3, а 13 конституционных проектов. И в этом корень беды: не смогли договориться. Когда же Анна Иоанновна разорвала «Кондиции» Верховного Тайного Совета (т. е. конституцию послепетровской России) разобщеность «верховников» помешала им воспротивиться этому.
Само их появление объясняют просто: мол, Петр прорубил окно в Европу, вот и хлынули европейские идеи. Это неверно. Еще 4 февраля 1610 г., когда конституционной монархией в Европе и не пахло, Боярская дума приняла вполне цельный, по словам Ключевского, « основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных» [143](«конституцию Салтыкова» ). Даже стойкий критик русской политической мысли Б.Чичерин, признает: документ « содержит в себе значительные ограничения царской власти; если б он был приведен в исполнение, русское государство приняло бы совершенно иной вид» . События 1610-13 гг. не дали конституции Салтыкова воплотиться в жизнь, но она явилась не на пустом месте. Она отразила уходящую вглубь веков русскую либеральную традицию.
В основе представлений, будто все либеральное и гражданское в России проникло через петровское «окно» , лежит незнание фактов. Увы, русские предреволюционные интеллигенты выросли на этих представлениях и именно их передали, уже в эмиграции — молодым тогда западным историкам России — Р.Пайпсу, братьям Рязановским и др. Ложная концепция, расцветшая на почве этих представлений, гласит: Москва вышла из-под ига Золотой Орды преемницей этой орды, свирепым «гарнизонным государством» .
На деле, Москва вышла из-под ига страной во многих смыслах более продвинутой, чем ее западные соседи. Эта «наследница Золотой Орды «первой в Европе поставила на повестку дня главный вопрос позднего средневековья, церковную реформацию, чья суть — в секуляризации монастырских имуществ. Московский великий князь, как и монархи Дании, Швеции и Англии, опекал еретиков-реформаторов: всем им нужно было отнять земли у монастырей. Но в отличие от монархов Запада, Иван III не преследовал противящихся этому! В его царстве цвела терпимость. [144]
Пишет Иосиф Волоцкий, вождь российских контрреформаторов: « С тех времен, когда солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси — в домах, на дорогах, на рынке все, иноки и миряне, с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников христианства… А от митрополита еретики не выходят из дому, даже спят у него» . [145]
Это прямое свидетельство, живой голос современника. Так и слышно, сколь горячи и массовы были тогда споры — « в домах, на дорогах, на рынке» . Похоже это на пустыню деспотизма?
Соратник Иосифа, неистовый Геннадий, архиепископ Новгородский, включил в церковную службу анафему на « обидящие святыя церкви» . Все понимали, что священники клянут с амвонов именно царя Ивана. И не разжаловали Геннадия, даже анафему не запретили. В 1480-е иосифляне выпустили трактат «Слово кратко в защиту монастырских имуществ» . Авторы поносят царей, которые « закон порушите возможеть» . Трактат не был запрещен, ни один волос не упал с головы его авторов.
Будь в Москве «гарнизонное государство» , стремились ли бы в нее люди извне? Это было бы подобно массовому бегству из стран Запада в СССР. Литва конца XV в. пребывала в расцвете сил, но из нее бежали, рискуя жизнью, в Москву. Кто требовал выдачи «отъездчиков» , кто — совсем как брежневские власти — называл их изменниками («зрадцами» )? Литовцы. А кто защищал право человека выбирать страну проживания? Москвичи.
Будущие русские князья Воротынские, Вяземские, Одоевские, Бельские, Перемышльские, Новосильские, Глинские, Мезецкие — имя им легион — это все удачливые беглецы из Литвы. Были и неудачливые. В 1482-м большие литовские бояре Ольшанский, Оленкович и Бельский собрались « отсести на Москву» . Польско-литовский король их опередил: « Ольшанского стял да Оленковича» , бежал один Бельский.
Великий князь литовский Александр в 1496-м пенял Ивану III: « Князи Вяземские и Мезецкие наши были слуги, а зрадивши нас присяги свои, и втекли до твоея земли, как то лихие люди, а ко мне бы втекли, от нас не того бы заслужили, как тои зрадцы» [146]Т. е., он головы снял бы «зрадцам» из Москвы, если б «втекли» к нему. Но не к нему «втекали» беглецы.
В Москве королевских «зрадцев» привечали и измены в их побеге не видели. В 1504-м, например, перебежал в Москву Остафей Дашкович со многими дворянами. Литва требовала их высылки, ссылаясь на договор 1503 года. Москва издевательски отвечала, что в договоре речь о выдаче татей и должников, а разве великий пан таков? Напротив, « Остафей же Дашкевич у короля был метной человек и воевода бывал, а лихого имени про него не слыхали никакова… а к нам приехал служить добровольно, не учинив никакой шкоды» . [147]
Москва твердо стояла за гражданские права! Раз беглец не учинил «шкоды» , не сбежал от уголовного суда или от долгов, он для нее политический эмигрант. Принципиально и даже с либеральным пафосом настаивала она на праве личного выбора.
Но едва свершилась самодержавная революция Ивана Грозного, православные потекли вдруг на католический запад. Теперь Москва заявляет, что « во всей вселенной, кто беглеца приймает, тот с ним вместе неправ живет» . А король (Сигизмунд), сама гуманность, разъясняет Грозному царю, что « таковых людей, которые отчизны оставили, от зловоленья и кровопролитья горла свои уносят» , выдавать нельзя.
Что же случилось во второй половине XVI в. в Москве? Что перевернуло уже сложившуюся культурную и политическую традицию? Примерно то же, что в 1917-м. Революция. Гражданская война. Цивилизационная катастрофа. В судорогах самодержавной революции рождалась империя и гибла досамодержавная, докрепостническая Россия. Утешает одно: ни опричный террор 1565 года, ни красный террор 1917-го не смогли извести либеральное наследие страны.
Говоря о европейской традиции России, мы говорим не о чем-то случайном, невесть откуда залетевшем, а о корневом и органичном. Эта традиция не сгорела и в огне террора, она не может сгореть пока жив русский народ. Европа — внутри России.
На определенном отрезке русской истории не мог не родиться симбиоз двух начал, либерального и абсолютистского. В письмах Ивану Грозному князь Андрей Курбский напоминает о старинных правилах отношений между князем-воителем и боярами-советниками (вольными дружинниками). Эти отношения, чаще договорные, во всяком случае нравственно обязательные и закрепленные в нормах обычного права, покоились на обычае «свободного отъезда» бояр от князя. Этот обычай служил лучшим обеспечением от княжеского произвола. Бояре просто «отъезжали» от князя, посмевшего дурно обращаться с ними. Сеньор с деспотическим характером не выживал в междукняжеских войнах. Независимость княжеских вассалов имела под собой надежное обеспечение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: