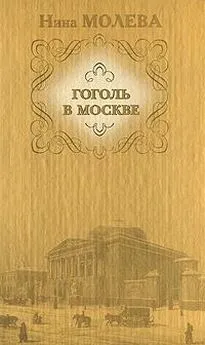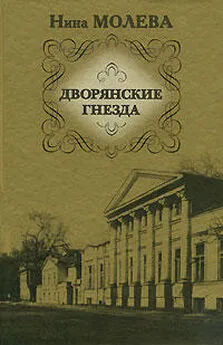Нина Молева - История новой Москвы, или Кому ставим памятник
- Название:История новой Москвы, или Кому ставим памятник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Агентство „КРПА Олимп“
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7390-2173-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Молева - История новой Москвы, или Кому ставим памятник краткое содержание
Петр I Зураба Церетели, скандальный памятник «Дети – жертвы пороков взрослых» Михаила Шемякина, «отдыхающий» Шаляпин… Москва меняется каждую минуту. Появляются новые памятники, захватывающие лучшие и ответственнейшие точки Москвы. Решение об их установке принимает Комиссия по монументальному искусству, членом которой является автор книги искусствовед и историк Нина Молева. Количество предложений, поступающих в Комиссию, таково, что Москва вполне могла бы рассчитывать ежегодно на установку 50 памятников. От москвичей тщательно скрывается, где и что должно внезапно возникнуть.
Нина Молева расскажет о работе этой Комиссии, опираясь на официальные документы и факты, покажет, как принимаются решения о возведении памятников. Вы узнаете, будет ли установлен памятник Виктору Цою, что хотели поставить в центре Лубянской площади, и где все-таки будет установлен «Писающий примус».
История новой Москвы, или Кому ставим памятник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Планировка Братского кладбища была поручена инженеру С.С. Шестакову, попечителем стал многолетний гласный Городской думы доктор С.В. Пучков. Кладбищу предстояло стать всероссийским памятником Первой мировой войны, и это было точно сформулировано архитектором Р.И. Клейном: «На Московском Городском управлении, принявшим на себя почин в устройстве Братского кладабища, лежит высокая нравственная обязанность приложить все заботы к тому, чтобы этот отныне священный для каждого русского уголок на вечные времена привлекал к себе народные массы со всех концов русской земли».
Открытие кладбища состоялось 15 февраля 1915 года, в августе закладка главного – Преображенского храма по проекту А.В. Щусева. Деньги на храм пожертвовали A.M. и М.В. Катковы в память двух своих погибших сыновей. В дальнейшем предполагалось открыть на кладбище музей войны, а само кладбище обнести фортами, на которых должны были стоять захваченные у неприятеля орудия. Со своей стороны Дума начала строительство к кладбищу трамвайной ветки, посколько пополнялось оно очень быстро, и на празднование Пасхи 1916 года здесь уже были зажжены поминальные свечи на 6000 могилах.
Всего с момента открытия до 1919 года на Братском кладбище были погребены 17,5 тысяч рядовых, 581 офицер, 51 сестра милосердия, 14 врачей и 20 общественных деятелей.
Новую трагическую страницу в историю Братского кладбиша вписали события обороны и штурма Кремля в 1917 году. По словам современника, 13 ноября 1917 года в начале Тверского бульвара «стояла большая толпа, ожидавшая конца отпевания жертв, павших в защиту Кремля и против насильников, т. е. юнкеров, студентов и других представителей нашей благородной молодежи и офицерства. Отпевание происходило в церкви Большого Вознесения и оттуда похоронное шествие должно было следовать на Братское кладбище. Как слышно, отпевание сегодня совершали епископы с патриархом Тихоном во главе». В общую могилу на Братском кладбище опустили 37 юнкеров, прапорщиков и студентов.
Тремя днями раньше состоялись общегородские торжественно обставленные похороны «жертв революции», штурмовавших Кремль. Их братское захоронение стало началом некрополя на Красной площади, у кремлевской стены. Всего там было похоронено 238 человек.
Связь с кремлевскими событиями явилась еще одной побудительной причиной для ликвидации Братского кладбища. С начала 1930-х годов площадь Братского кладбища стала сокращаться, последовал приказ о его закрытии. После Великой Отечественной войны на его территории развернулось строительство комплекса на Песчаных улицах. От всех захоронений среди бурелома и неухоженной земли, у трамвайных линий сохранялся единственный скромный памятник – студента Московского университета Шлихтера. И здесь невольно возникает тема «Москва и чужеземцы», которых город испокон веков умел привечать.
Так сложилось, что сегодняшние историки обходят вниманием примечательную особенность дооктябрьской литературы о Москве: отсутствие в самых серьезных энциклопедических изданиях, вроде Брокгауза и Евфрона, данных о национальном составе населения. Впрочем, это право распространялось на все населенные места России, как и в государственных паспортах вместо национальности стояло указание – «подданный Российской империи». Зато каждый справочник указывал, какое число горожан к какой конфессии принадлежало.
Это не значило, что административные органы не имели представления о национальном составе своих жителей, который учитывался общими и локальными переписями. Так в первые годы XX столетия население Москвы приближается к 1 млн. 200 тысячам человек. 95,5 процента составляют русские, украинцы и белорусы, которые всегда трактовались как единая этническая группа. Оставшиеся 4,5 процента – это 120 национальностей. Монголов, например, было 8, китайцев и японцев вместе 20, черкесов и чеченцев 29, осетин 40, арабов и сирийцев 53, персов 122, греков 193. Но уже 223 живущих в Москве грузина образуют свой культурный центр, имевший целью «заботиться о духовном развитии и материальном благосостоянии Московской грузинской колонии».
Колония скандинавов насчитывала 267 человек. Все они принадлежали к наиболее состоятельным кругам общества и потому вместо собственного центра ограничились созданием Общества любителей скандинавской литературы имени Г. Ибсена, которое финансировало школы и курсы шведского, норвежского, финского, датского и древнескандинавского языков.
148 москвичей-сербов имеют общество «Несвинье». Их, как и всех западных славян, деятелыо поддерживают московские общества – Славянское вспомогательное и Славянской культуры.
Впрочем, чехи вели самостоятельную работу. В Москве их было свыше 600 человек, образовавших Чешский комитет и Русско-чешское общество имени Яна Гуса. Последнее начинает заниматься «просвещенной туристикой». Оно оказывает всяческую помощь русским, путешествующим по их земле, и чехам, приезжающим жить в Россию.
Одна из самых многочисленных – французская колония (около 3 тысяч) опиралась на мощную поддержку из поколения в поколение работавших в России французских фабрикантов.
Едва ли не самой деятельной была группа живших в Москве литовцев и латышей, включавшая около 1600 человек. Члены Московского Латышского общества могли рассчитывать на низкопроцентные или вообще беспроцентные ссуды, единовременные, периодические или пожизненные пособия в связи с семейными обстоятельствами, на удешевленные, или бесплатные, юридические и медицинские советы. По сниженным ценам они получали в своих аптеках лекарства и продукты в специальных магазинах.
Латышское общество славилось в городе хорошими концертами, акциями, отличной бильярдной и единственным в Москве кегельбаном.
Литовское общество имело аналогичную систему ссуд, но и особую систему призрения родственников, умерших соотечественников – детей, иждивенцев и престарелых родителей. Одним из его руководителей долгие годы оставался замечательный русский и литовский поэт Серебряного века Юргис Балтрушайтис.
Самой большой в Москве была немецкая колония – свыше 20 тысяч человек. Ее связь с культурной и экономической жизнью старой столицы была настолько тесной, что никакого отдельного центра немцы не создавали. Немецкий язык преподавался в каждом учебном заведении. Немецкие книги были представлены во всех, в том числе в школьных, библиотеках. В Москве действовали лютеранские кирхи с общеобразовательными школами при них, куда могли поступать дети всех москвичей.
Группа мусульман, включавшая татар и башкир, общей численностью до 4 тысяч человек ни школ, ни культурного центра не имела. Все ограничивалось существованием мусульманского благотворительного общества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: