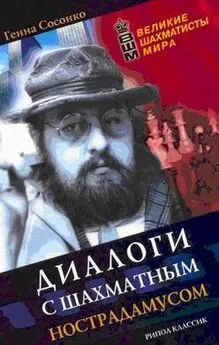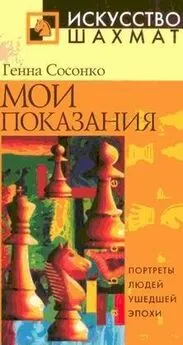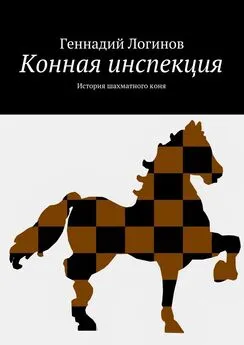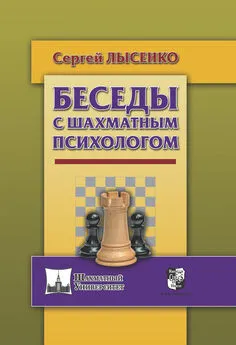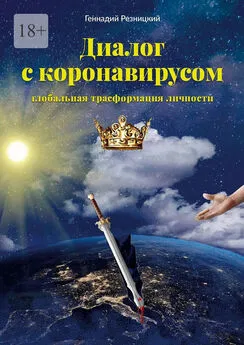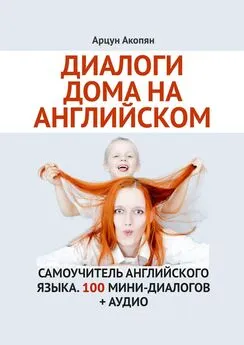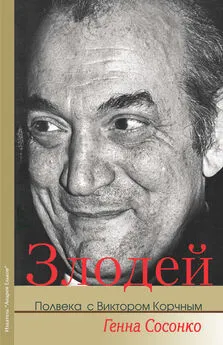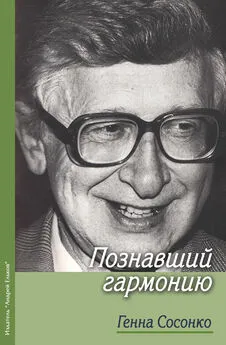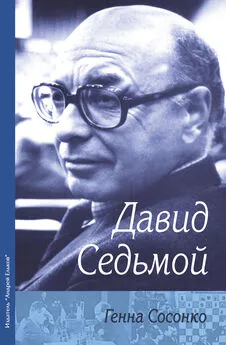Геннадий Сосонко - Диалоги с шахматным Нострадамусом
- Название:Диалоги с шахматным Нострадамусом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Рипол Классик
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-7905-4359-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Сосонко - Диалоги с шахматным Нострадамусом краткое содержание
Новая книга голландского гроссмейстера Генны Сосонко — своеобразное продолжение его сборника «Мои показания» («Рипол классик», 2003), ставшего самым ярким событием в российской шахматной литературе за последние годы.
В роли Нострадамуса выступает голландец Хейн Доннер, который был не только сильным гроссмейстером, но и блестящим журналистом и литератором, любившим рядиться в тогу прорицателя. Сосонко, переведя два десятка его рассказов на русский язык, вступает с ним в заочную дискуссию. В предисловии он пишет: «По этому принципу и построена книга: сначала следует повествование Доннера, потом мое собственное — на ту же тему. Я не был бы шахматистом, если бы не рассматривал каждый рассказ Доннера как отправную точку для соревнования, надеясь, что в любом случае в выигрыше останется читатель».
Диалоги с шахматным Нострадамусом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Повисло молчание.
—Так какие есть мнения, как будем поступать с этим запросом? Не знаете? А вот так! — юскликнул Ходоров и, скомкав письмо, бросил его в урну.
Через пару месяцев Рубан сам объявился в городе и зашел в клуб, где был принят Ходоровым, причем, по свидетельству очевидцев, весьма радушно. Приближалась Спартакиада народов СССР, последние доски сборной команды города выглядели слабовато, и Рубан поинтересовался, не найдется ли ему места в команде. В устном фольклоре сохранился ответ Ходорова, данный Рубану при свидетелях: «Во-первых, Женя, вы четыре года были начисто лишены игровой практики, во-вторых, вам до сих пор не вернули мастерского звания, ну а в-третьих, я не уверен, не ебут ли вас еще и сейчас».
В то время Рубан не раз бывал наездами в Ленинграде. Хотя пребывание в лагере не могло не сказаться на его внешнем виде, держался он достаточно уверенно, порой бывал весел, шутил. Однажды он разговорился с чемпионом Европы среди юношей, будущим гроссмейстером Александром Кочиевым, поступившим на философский факультет университета.
Слышал, что ты идешь по моим стопам? - заметил ему, улыбаясь, Рубан.
Лучше я пойду по стопам Анатолия Евгеньевича, — со смехом рассказывал об этом разговоре Кочиев коллегам-шахматистам. И вскоре перевелся на экономический факультет, который к тому времени Карпов уже закончил.
Рубан снова предпринимал попытки остаться в Питере, хотел устроиться на работу сторожем, чтобы на первых порах получить хотя бы временную прописку. Снова рассматривался вариант женитьбы (фиктивной, разумеется). Но и на этот раз всё кончилось неудачей, и Рубан вынужден был окончательно вернуться в Белоруссию. «Придется доживать век в нашем болоте», — вздыхал Женя по возвращении в Гродно.
В мастерском звании его так и не восстановили. В «Справочнике шахматиста», вышедшем в 1983 году, имя Рубана попросту отсутствует: шахматиста с такой фамилией никогда не было. На работу его нигде не брали: несмываемое пятно лежало на таком человеке, и устроиться на работу было легче вышедшему по амнистии бандиту или отбывшему срок заключения убийце. На нем было вытравлено клеймо, и на свободе он тоже оставался изгоем и парией.
В конце концов он получил работу санитара в морге, потом удалось устроиться осветителем в Театр русской драмы. Редким знакомым он говорил, что написал пьесу. Другие утверждают, что Рубан писал детективы. Вполне возможно, ведь еще будучи студентом, он, собирая материал по вокзалам, пивным и прочим злачным местам, намеревался писать историю петербургского «дна».
Хотя в театре понимали, что софиты на сцену наводит философ и писатель, и относились к нему уважительно, между ним и его окружением всегда сохранялась дистанция, и близких друзей у него не было. Тесное общение и тем более дружба с таким человеком бросала порочащую тень и ничего хорошего не сулила. Порой он сталкивался с презрением, смешками и ухмылками, когда и открытыми.
«Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами — не свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не свой рожден затравленным». Это — Марина Цветаева.
Где-то в конце 70-х годов он получил новый срок, два года, и опять отправился в лагерь. Потом его сослали в очередной раз. Всюду, где бы ни жил тогда Рубан — в Чите, Костроме, Волковыске, — он играл в шахматы и становился чемпионом города. Помимо связей, протекавших где-то в тайной жизни Евгения Николаевича, в своей повседневности он был до конца связан с шахматами.
Вернувшись в Гродно, он поначалу работал инструктором в шахматном клубе, но продержался там недолго: его выгнали за пьянство. Но он все равно приходил в клуб и, просиживая там целыми днями, читал книги, взятые в городской библиотеке. По философии, по искусству, детективы — всё подряд.
Молодые белорусские шахматисты вспоминают, что по уровню развития, знанию философии, литературы рядом с ним в республике поставить было некого; выделяясь на общем сером фоне, Рубан казался им кладезем знаний.
Но не все думают так, можно услышать и диаметрально противоположные суждения. Здесь нет противоречия. Одни говорят о блестящем эрудите, интересном собеседнике, яркой личности, другие — об эксцентричном, грязном, спившемся нищем; это известный случай сидящих в одной тюремной камере: один видит грязь на решетке, другой — звезды на небе.
В те редкие моменты, когда перепадали деньги, он ходил на концерты классической музыки или в местный театр, но случалось это нечасто: алкоголь был главной статьей расходов. Очевидцы вспоминают, как на каком-то турнире после крепкого застолья, когда вечер вошел уже в ту стадию, когда громкость сказанного играет гораздо большую роль, чем смысл, а ненормативная лексика вплетается сама собой в любую фразу, кто-то хватился: куда-то делись два собутыльника — Рубан и калининградский мастер Олег Дементьев, тоже уже покойный. Волновались, впрочем, недолго: оба обнаружились на балконе, где вели дискуссию о поэзии раннего Мандельштама.
Он не был брезглив и никогда не отказывался от подарков: поношенного костюма, старых башмаков... Гордо благодарил, хотя мог тут же пропить дареное. Он пил каждый день. И помногу. Хорошо если водку, но, бывало, и напитки, не продававшиеся в винных отделах гастрономов. Пил с каждым, кто подносил ему одни расплачивались таким образом за уроки, другие - за партии блиц, третьи - просто за разговор со знаменитым когда-то шахматистом. Однажды, выиграв приз в Минске, он купил матери подарок, но до дома не довез: пропил и деньги, и подарок...
Владимир Веремейчик, живший с Рубаном в одном номере гостиницы во время какого-то турнира, вспоминает: пока не были пропиты все деньги и талоны, ежедневной нормой Рубана были две бутылки водки. Случалось, пил и до партии и во время ее. Очень скоро не осталось ни денег, ни талонов, и его рацион стал предельно прост: вода из-под крана и буханка хлеба. Но когда Веремейчик попытался провести параллель с лагерем, Рубан, никогда не распространявшийся о сю их годах в заключении, только усмехнулся: «Нет, в лагере было хуже».
Нервная система его была совершенно изношена, он был подвержен перепадам настроения и нередко был попросту не в состоянии владеть собой. Как-то, зайдя в Минске в шахматный клуб, начал скандалить и, вспомнив прошлое, обругал непечатно мастера, причастного к его первой дисквалификации в далеком 59-м году.
Это был уже сильно изменившийся, неряшливо одетый, грязноватый, помятый и подопустившийся человек. Таким увидели его в Гродно люди, помнившие Рубана по студенческому времени. Он мог часами расспрашивать о городе, где прошли самые светлые его годы, вспоминал шахматы - вернее, шахматных знакомых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: