Семен Резник - Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына
- Название:Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-8159-0554-2,5-8159-0332-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Резник - Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына краткое содержание
Семен Резник, писатель, историк и журналист, автор исторических романов, научно-художественных биографий, историко-публицистических книг о России последних двух столетий. Живет в США. Сотрудник радиостанции «Голос Америки».
Книга Семена Резника — это достоверный и полный драматизма рассказ о евреях в России и об их гонителях. О тех, кто сваливал на них грехи сначала царской, а затем советской власти, а свалил в пропасть и их, и себя, и страну. В 2003 году изд-во «Захаров» выпустило книгу С. Резника «Вместе или врозь?», охватывавшую в основном дореволюционный период. В новом издании — вдвое большем по объему — повествование доводится до наших дней.
Эта книга — не столько анализ дилогии Александра Солженицына «Двести лет вместе», сколько параллельное с ним прочтение истории России, с попыткой определить реальное место в ней евреев и так называемого еврейского вопроса. Если А. Солженицын привлекает в основном «еврейские источники», преимущественно вторичные (материалы «Еврейских энциклопедий», публицистические работы и мемуары по большей части второстепенных лиц), то С. Резник основывается на документах-первоисточниках, свидетельствах высших чинов царской и советской администрации, прямых участников событий, в отдельных случаях — на специальных трудах историков. Хотя полемика с Солженицыным проходит через все повествование, содержание книги к ней не сводится: оно значительно глубже и шире.
Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прекрасно зная, на ком государь — по наущению Трепова — остановил свой выбор, Витте спросил: «Ваше величество, может быть вам будет угодно мне сказать: кто это такие мои враги, ибо я не догадываюсь о том». И после того, как государь назвал И. Л. Горемыкина, Витте сказал: «Какой же, ваше величество, Горемыкин мой враг? Во всяком случае, если все остальные лица такого калибра, как Горемыкин, то они мне представляются врагами очень мало опасными». [249]
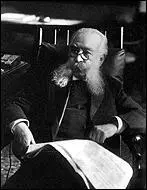
И. Л. Горемыкин
Государь усмехнулся, оценив иронию. Когда-то он уволил Горемыкина с поста министра внутренних дел, потому что ему «надоели пешки». И вот теперь он ставил эту пешку на капитанский мостик корабля, которому предстояло плавание по далеко еще не успокоенному и притом совершенно неведомому морю! Почему?
«Для меня главное то, что Горемыкин не пойдет за моей спиной ни на какие соглашения и уступки во вред моей власти, и я могу ему вполне доверять, что не будет приготовлено каких-либо сюрпризов, и я не буду поставлен перед совершившимся фактом, как было с избирательным законом, да и не с ним одним». [250]Так он объяснит В. Н. Коковцову. Объяснит лицемерно, еще раз демонстрируя свою мелочность и ничтожество. Ни избирательного, ни какого-либо иного закона Витте не мог издать «за спиной» государя. Все делалось с его согласия и одобрения! Правда была только в том, что премьер настаивал на нововведениях, исходя из широко понимаемых государственных интересов, тогда как государь превыше всего ставил свои личные интересы, и понимал их узко — так, как их понимали льстивые ничтожества, составлявшие его ближайшее окружение. Горемыкин подходил больше, чем Витте, ибо «его [государя] доверие направилось к тем, кто толкал его к гибели». [251]
Неумолимый дрейф к краю пропасти не мог не возобновиться.
Эпоха Столыпина
1906–1911
Поработать с Государственной Думой, которую он породил, Витте не дали, а И. Л. Горемыкин не имел ни малейшего понятия о том, с какой стороны подступиться к такому чудищу. Как предупредил государя В. Н. Коковцов, «личность Ивана Логгиновича, его величайшее безразличие ко всему, отсутствие всякой гибкости и прямое нежелание сблизиться с представителями новых элементов в нашей государственной жизни, все это не только не поможет сближению с ними, но послужит скорее лозунгом для усиления оппозиционного настроения». [252]
Такая характеристика нового премьера (Коковцов, по его словам, «до мельчайшей подробности» передал этот разговор самому Горемыкину, во что трудно поверить) не помешала назначению Коковцова министром финансов в горемыкинский кабинет! Пойдя на образование солидарного Совета министров, Николай продолжал делать все, чтобы солидарности не допустить. Кажется, «разделяй и властвуй» был единственный метод управления, которым он владел. Он походил на капитана тонущего корабля, который, вместо того, чтобы налаживать дружную работу команды, дабы попытаться задраить брешь и дотянуть до спасительного берега, озабочен только тем, как бы старший помощник и боцман не сговорились между собой и тем не нанесли ущерба его безграничной власти на судне.
Нечего и говорить, что, коль скоро ему так важно было противопоставлять друг другу министров, то куда важнее было поссорить правительство с Государственной Думой, еще даже не открывшейся. Если созданное для работы с Думой правительство в чем-то и было солидарно, то именно в том, чтобы с Думой не работать! Когда Государственный контролер П. К. Шванебах заметил, что в новом правительстве оказалось «немалое количества элементов, не слишком нежно расположенных к идее народного представительства и едва ли способных внушить к себе доверие со стороны последнего», Коковцов резонно ответил: «Пожалуй, что и все мы принадлежим к тому же разряду, начиная с нашего председателя». [253]
А вот картина приема депутатов Думы царем в Тронном Георгиевском зале Зимнего дворца — перед началом ее занятий.
«Вся правая половина от трона была заполнена мундирной публикой, членами Государственного Совета и — дальше — Сенатом и государевой свитой. По левой стороне, в буквальном смысле слова толпились члены Государственной думы и среди них — ничтожное количество людей во фраках и сюртуках, а подавляющее же количество их, как будто нарочно, демонстративно занявших первые места, ближайшие к трону, — было составлено из членов Думы в рабочих блузах, рубашках-косоворотках, а за ними толпа крестьян в самых разнообразных костюмах, некоторые в национальных уборах, и масса членов Думы от духовенства». [254]
Ради чего Николай устроил эту бестактную демонстрацию пышности в пышной своей резиденции вместо того, чтобы самому явиться в Таврический дворец и показать свое уважение к народным избранникам? А ради того, чтобы показать прямо противоположное: в державе ничего не изменилось и меняться не будет! Он снизошел к народным чаяниям по безграничной своей милости и добросердечию; но тот, кто раздает милости, может их и отобрать. Народные представители в своих жалких зипунишках и косоворотках должны знать свое место!
Понятно, как восприняли этот прием представители народа. Они стояли насупленные, глядели исподлобья, а «наглое лицо» одного из депутатов дышало «таким презрением и злобой», что новый министр внутренних дел П. А. Столыпин сказал стоявшему рядом с ним Коковцову: «Мы с Вами, видимо, поглощены одним и тем же впечатлением, меня даже не оставляет все время мысль о том, нет ли у этого человека бомбы и не произойдет ли тут несчастья». [255]
Состав Думы оказался в большинстве оппозиционным, отчасти и революционным, а поскольку избирательный закон давал многократные преимущества привилегированным классам, то настроение широких масс в среднем было еще более радикальным.
Вопреки антисемитской демагогии черной сотни, которая так импонировала царю и дворцовой камарилье, основной движущей силой революции было крестьянство. Как вскоре скажет П. А. Столыпин, «смута политическая, революционная агитация, приподнятые нашими неудачами, начали пускать корни в народе, питаясь смутою гораздо более серьезною, смутою социальною развившейся в нашем крестьянстве… Социальная смута вскормила и вспоила нашу революцию». [256]
Это не значит, что другие вопросы — в особенности рабочий и национальный (польский, финский, еврейский и другие) — стояли менее остро. Но крестьянство составляло основную массу населения, и потому главный вопрос, который требовалось решить, чтобы всерьез и надолго оградить страну от потрясений, был вопрос о земле.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









