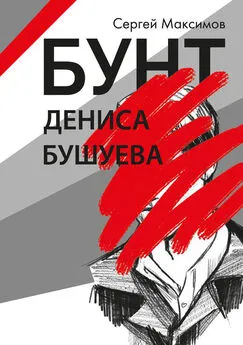Сергей Максимов - Очерки
- Название:Очерки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Сов. Россия
- Год:1981
- Город:М.;
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Максимов - Очерки краткое содержание
Очерки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Воскресенский собор в Коле деревянный, построенный в 1684 году и сгоревший в 1854 году, увенчанный восемнадцатью главами, вместе с такою же многоглавою (о 23 главах) церковью в Кижском погосте (Олонецкой губернии), с церковью в с. Нюхче (на Белом море) служат достаточным доказательством, насколько смелы, самостоятельны и изобретательны были архитектурные замыслы доморощенных строителей. Не говорим о прочности, потому что, подвергаясь случайным бедствиям пожаров, эти замысловатые деревянные сооружения успевали выстаивать по двести лет, мало изменяясь. Деревянный дом в Сольвычегодске знаменитых богачей Строгоновых выстоял 233 года (построен в 1565, разобран в 1798 году) "в совершенном порядке, то есть ни в которую сторону не покривился".
Предоставленные самим себе и добровольно отдавшиеся руководству своих большаков и общинных приемов и правил, северные лесовики поспевают и на другие дела, не выходя из заколдованного круга, намеченного могущественными лесами. (…)
Следуя примеру инородцев и не устаивая перед соблазнами богатств, охотно предлагаемых почти даром лесами, наши северные люди в нужное время делаются такими же звероловами и птицеловами, ходят лесовать каждый год два раза: с окончанием полевых работ до глубокой зимы, а потом опять "по насту", то есть в конце зимы. На полянах становятся станом, но по лесам кочуют по звериным следам и тропам. Однако к охоте русские люди применили новые орудия и остроумные снасти. Вместо луков со стрелами пущены в дело винтовки, приготовляемые своими руками из своего железа, добываемого в ржавых лесных болотах. Вместо мертвых петель и пастей, ищущих зазевавшегося и случайного дурака зверя, русские промышленники приспособили ставки и всякие другие снасти, от которых редко уходит теперь самый чуткий и осторожный зверь. Охота на зверей и ловля птиц — столь же древние подспорные промыслы русского народа, как и само земледелие, и по обилию лесов не во многом ему уступают. Птиц и зверей в лесах и степях было такое обилие, что соболей — по пословице — били бабы коромыслами, а, по сказаниям очевидцев и современников, зверей убивали только для шкуры, бросая мясо; коз истребляли тысячами; от обилия рыбы обрывались сети, бобры водились во всех реках, весною мальчики наполняли птичьими яйцами целые лодки и т. д. От юго-западного угла у Карпатских гор до северо-восточного у Уральских, на всем громадном пространстве лесистой Руси ловецкие промыслы производились в самых широких размерах: на бобровых гонах, на птичьих садбищах и звериных ловищах по ловчим путям, сетями к перевеслами, клетками и тенетами. По словам былины о Вольге Святославиче:
Вили веревочки шелковые,
Становили их в темном лесу.
Становили их по сырой земле
И ловили лисиц и куниц,
Диких зверей и черных соболей,
Больших поскакучих заюшек,
Малых горностаюшек.
Вили силушки шелковые,
Становили на темный лес,
На самый лес, на самый верх;
Ловили гусей, лебедей, ясных соколов
И малую птицу пташицу.
Туры, олени постреливали.
Во главе народа, кормившегося промыслом, стали сами князья, превратившие охоту в серьезное занятие и приятную забаву. На двух крайних рубежах нашей истории, отдаленных один от другого на шестьсот лет, стоят два охотника князя — один из симпатичных представителей владетельного рода, киевский князь Владимир Мономах и московский царь Алексей Михайлович.
Первый сам говорит про себя: "Тура два метали мя на розех с конем, олень мя один бол и два лоси: один ногами топтал, а другой рогами бил; вепрь ми на бедре мяч отъял, медведь ми у колена подклада укусил, лютый зверь (т. е. волк) скочил ко мне на бедры и коня со мною поверже". Царь Алексей Михайлович заповедал для своих государевых потех подмосковный хвойный лес, который до сих пор носит прозвание Сокольников; наблюдатели за царской охотою считались, под именем сокольничьих, придворными чинами; охотничьи правила узаконены особым наказом "сокольничьего пути", в котором сохранились собственноручные исправления и пометки царя Алексея. Был он "ловец добр, хоробор, николи же ко вепреви и ни ко медведева не ждаше слуг своих, а быша ему помогли, скоро сам убиваше всякий зверь, тем же и прослыл бяшет по всей земле".
В древней Руси, когда порох еще не был изобретен и затем, изобретенный и вывезенный в Москву, был еще для забав и потех дорог и недоступен самым богатым, — для охоты служили ловчие птицы из породы хищных: ястреба и их родичи — чернопепельного цвета обыкновенный сокол и сокол белого цвета, называвшийся кречетом. Они входили в число податей с народа, для них устраивались особые сборные места ("садбища"), и в числе военной добычи эти птицы считались приятным приобретением. Ловля ловчих птиц особенно была выгодна, потому что цена на них стояла высокая; сокольи гнезда принадлежали владельцу леса и ограждены были законом (славились ястреба вологодские, кречеты белозерские; Ивану Ластке велено было от Грозного царя ловить и сберегать этих птиц на Печоре). Ловли передавались по завещанию, ловчие остались вольными слугами, и жители тех мест, куда они приходили на ловлю, обязывались содержать их бесплатно, "занеже люди те надобны" — как выражается грамота Ивана Калиты. А ходили по отхожим лесам и сокольники, и бобровники, псари и тетеревники, ловцы лебединые, заячьи и гоголиные.
Эти ловчие обучали искусству ловли непривычную к людям и домашней жизни птицу тем, что сажали ее в темное место, истощали ее силы, томили и изнуряли голодом, потом давали корм, выносили и мало-помалу приучали преследовать ту или другую породу дичи, на охоте сокола спускали с руки. Он бил птицу на лету, для чего сперва подтекал под нее, взгонял ее, потом сам выныривал позади вверх и внезапно ударял в птицу стрелой под левое крыло, всаживая большой отлетный коготь, и порол ее, словно ножом. Птица падала, сокол опускался на нее, перерезал горло и пил кровь. Ястреб птицу щиплет где ни попало, а кречет никогда не берет добычи с земли, не хватает ее и на полете. За это и за то, что он бьет сверху, — кречет считается самою ценною из всех ловчих птиц.
Бегая легким способом по лесным сугробам на лыжах, северные русские успели изобрести и иные способы пользоваться лесными богатствами, о присутствии которых лесные инородцы еще до сих пор не подозревают. Если все эти способы первобытны и самым решительным образом ведут на полное истребление лесов, тем не менее ими занято такое множество рук и сыто столько желудков, что нельзя пройти мимо них, не сказавши ни слова. В этом отношении особенная услуга оказывается сосною — самым господствующим деревом наших северных глухих лесов.
В начале весны, когда дерево начинает наполняться свежими соками, какой-нибудь шенкургский «ваган» сдирает кору до корня от того места, сколько позволит рост и достанет рука с топором. А так как крупные деревья повывелись, стало жаль остальных, то с мелких деревьев дерут кору с головы до пят, то есть с того места, где начинаются ветви, и до самых корней. Оставляется на створе ремень из коры только с северной стороны, от которой всегда ожидает тамошний человек всяких бед для себя. На этот раз север подсушит засоченное дерево — и весь труд пропал, незачем было и промокать до последней нитки на мокрых весенних прогалинах. «Засочка» кончается, когда кончаются взятые из дома съестные припасы и стало ломить плечи и спину. Ваган кладет свое клеймо. И еще не родился в тех местах тот человек, который смел бы не уважить чужой заметки, дерзнул был очищать чужой путик с надавленными рябчиками и куропатками, даже прикоснуться к той веревке, на которой нанизываются беличьи шкурки, забытые или оставленные до благоприятного случая в лесной кушне. Оставят там лодку и при ней шест — значит, чужая и нужная, проходи мимо. Подле одной такой лодки с сетями стояло весло, и незнающий человек захотел на него облокотиться — все прочие бросились его удерживать и все уверяли с клятвою, что примешь за это и грех и болезнь — стрелье в бок. В одной избушке все охотники перемерли от цинги, не успевши донести до дома довольно богатого мехового промысла и разных мелких вещей. Одиночки проходили мимо, грелись в избе — не трогали из оставленного ни пушинки и решились прийти сюда целой артелью. Она пересчитала все счетом до мелочи, оглядела со всех сторон и все изъяны и все, до последней крохи и шерстинки, доставила наследникам. Но довольно, чтобы не заговориться на этом свойстве северных русских людей, мимо которого, однако же, и пройти невозможно, к тому же, стало оно теперь мало-помалу становиться редким.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: