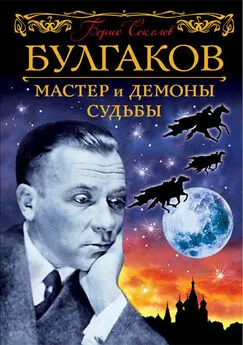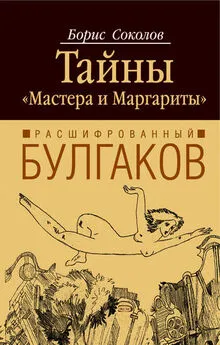Б Соколов - Булгаков
- Название:Булгаков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Б Соколов - Булгаков краткое содержание
Булгаков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я. и с. Булгакова, прежде всего в «Мастере и Маргарите», стал образцом, почти нормой для многих русских писателей последней трети нашего века. П. С. Попов в письме Е. С. Булгаковой 27 декабря 1940 г. по поводу «закатного» романа справедливо утверждал, что «можно прямо учиться русскому языку по этому произведению», а в биографическом очерке назвал покойного друга «образцовым стилистом, превосходно владевшим всем богатством и разнообразием» родного языка. Сам Булгаков именно язык считал самым важным элементом литературного произведения. В письме начинающему писателю Савелию Савину, приславшему на отзыв роман «Юшка», он призвал своего корреспондента «менять язык, поскольку из всех способов ознакомить читателя с Вашим замыслом изволили выбрать самый неудобный. «Он следил за плешивыми лентами, что оголяли череп»…(?) Я — Ваш читатель, останавливаюсь и вместо того, чтобы следить за развитием событий, начинаю размышлять над тем, что это значит, и двигаюсь дальше с сильнейшим сомнением в душе. Никакие «плешивые ленты» не оголяют череп! Читатели Ваши не раз стриглись в парикмахерских. Дело просто, как «рота готовилась к полковому празднику»… Это так. И все должно быть так. Просто. А то местами до того непросто, что и просто неверно, туманно. Сомнительно. «Оголенный череп, плоский, как дно баркаса»… Помилуйте! Разве что перевернутого баркаса? Да и причем здесь баркас? Книга усеяна вычурными, претенциозными оборотами. Местами какой-то елейный стиль, диаконовские выверты — «нудит о помощи…»… Можно ли так говорить? Ей-Богу, не знаю!… Впечатление такое, что автор Юшкой совершенно не интересуется, Юшка ему не нужен… Оговариваюсь — на роль ментора не претендую, пишу как читатель. А раз я читатель, то будьте добры, дорогие литераторы, подавайте так, чтобы я легко, без мигрени следил за мощным летом фантазии».
К собственному творчеству Булгаков в первую очередь подходил с позиций потенциального читателя. Поэтому писал просто и правильно, облекая «мощный лет фантазии» в формы, понятные всем — и рафинированному интеллигенту, и простому рабочему, вроде тех, чьи не слишком грамотные корреспонденции когда-то приходилось править в «Гудке». Писателю очень скоро стала претить избыточная и вычурная, как он считал, метафоричность, столь характерная для советской литературы 20-х годов. Булгаковский Я. и с. обретают ту прозрачную простоту, к которой стремился еще Лев Толстой в последний период своего творчества. Булгаков, убежденный, что своих героев автор должен любить, чтобы затем их полюбил читатель, не допускал искусственной усложненности и чрезмерной цветистости языка как самоцели, которой должны были бы подчиниться и развитие сюжета, и характеры персонажей. Поэтому булгаковская проза читается с необычайной легкостью. Внимание читателей лишний раз не отвлекается от мастерски сделанного сюжета необходимостью осмысливать сложные метафорические обороты и бесконечные повествовательные периоды. В пьесах же речь персонажей по своему строю оказывается очень близка к реальной разговорной, будучи разделенной на не очень длинные фразы, она мало отступает от литературной нормы и легко воспринимается зрителями, позволяя без труда следить за развитием действия. Для Булгакова чрезвычайно важным было идейное содержание произведения. Я. и с. должны были помогать восприятию заложенного в текст смысла, не концентрируя на себе специально читательское внимание.
У других писателей в качестве положительных качеств Булгаков выделял то, к чему стремился сам. У начинающего Савелия Савина его внимание привлекло простое и грамматически совершенно правильное предложение — «рота готовилась к празднику». У куда более маститого Юрия Слезкина (см.: «Юрий Слезкин. Силуэт») Булгаков особо подчеркнул, что «быть может, ни у одного из русских беллетристов нашего времени нет такой выраженной способности обращаться со словом бережно». На примере Слезкина писатель фактически дал и собственное понимание художественности: «Тонкие душевные движения им изучены хорошо, те тайные изгибы, по которым бежит и прячется душа человеческая, для него открыты, а проявление в действии скрытых пружин, руководящих человеческими поступками, сделано неизменно художественно, то есть правдиво и ясно». Однако ясность и простота не означали для Булгакова самоценного стремления к гладким фразам, годным разве что для грамматических прописей. О языке Слезкина, явно не отличавшегося булгаковским полетом фантазии, он отзывается с заметной иронией: «Ю. Слезкин пишет хорошим языком, правильным, чистым, почти академическим, щеголевато отделывая каждую фразу, гладко причесывая каждую страницу.
… Как уст румяных без улыбки…
Румяные уста беллетриста Ю.Слезкина никогда не улыбаются. Внешность его безукоризненна.
… Без грамматической ошибки…
Нигде не растреплется медовая гладкая речь, нигде он не бросит без отделки ни одной фразочки, нигде не допустит изъяна в синтаксической конструкции. Стиль в руке, пишет словно кропотливый живописец, мажет кисточкой каждую черточку гладко осиянного лика. Пишет до тех пор, пока все не закруглит и не пригладит. И выпустит лик таким, что ни к чему придраться нельзя. Необычайно гладко».
Здесь цитата из пушкинского «Евгения Онегина» передает булгаковский сарказм. В отличие от Слезкина, автор «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца» в своем творчестве отдавал дань и юмору, и сатире. Неслучайно в письме Правительству от 28 марта 1930 г. Булгаков подчеркнул «яд, которым пропитан мой язык». И не стремился к «медовой гладкости» литературной речи, понимая, что некоторая художественно дозированная «неправильность» языка по сравнению как с нормой, так и с живой разговорной практикой необходима для должного эстетического воздействия на читателя. В частности, Булгаков вводил в свою прозу ритм, следуя традиции Белого, например, в ставшем хрестоматийном описании Понтия Пилата: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». Писатель также использовал непривычную транскрипцию знакомых слов, вроде «Ершалаима», «кентуриона», «Вар-Раввана» в евангельских главах «Мастера и Маргариты». В московской же части этого романа со строгим чувством меры употреблял просторечные слова для речевой характеристики персонажей типа Коровьева-Фагота, который конферансье Жоржа Бенгальского величает замечательным словом «надоедала». Иной раз Булгаков сознательно допускал инверсии (неправильный порядок членов предложения по сравнению с нормативным), например в «Мольере»: «Дом этот находился в шумнейшем торговом квартале в центре Парижа, недалеко от Нового Моста. Домом этим владел и в доме этом жил и торговал придворный обойщик и драпировщик Жан-Батист отец». Здесь трижды повторенная в двух соседних предложениях одна и та же инверсия несколько сглаживает ощущение монотонности от троекратного повтора одного и того же выражения — вместо обычного и ожидаемого «этот дом» внимание читателя заостряется на необычном «дом этот». Монотонность же, по всей видимости, потребовалась писателю, чтобы передать атмосферу жизни того сословия, к которому принадлежал отец только что появившегося на свет будущего великого комедиографа. И тут же инверсия подлежащего и трех сказуемых — «владел», «жил» и «торговал» облегчает читателям восприятие описания «скучного» бытия мольеровского родителя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



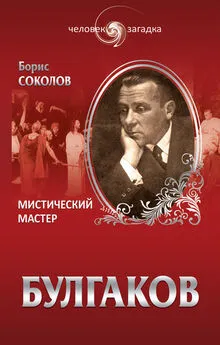
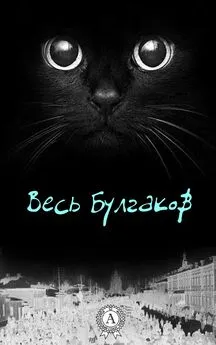
![Михаил Булгаков - Весь Булгаков [litres; сборник]](/books/1069839/mihail-bulgakov-ves-bulgakov-litres-sbornik.webp)