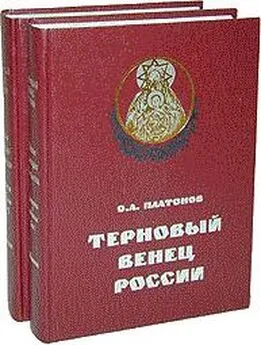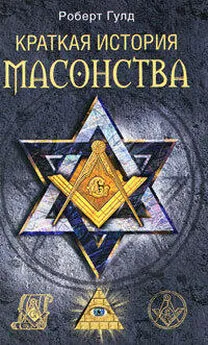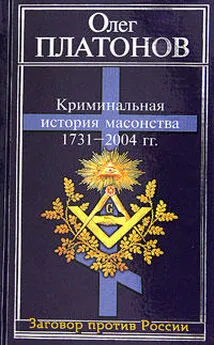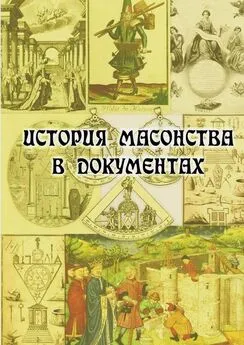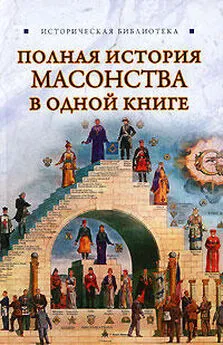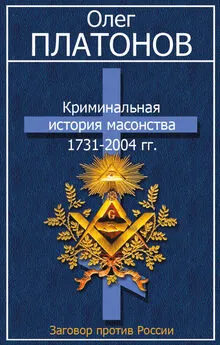Наргиз Асадова - Братья. История масонства в России
- Название:Братья. История масонства в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наргиз Асадова - Братья. История масонства в России краткое содержание
Цикл передач «Братья», прозвучавших на радиостанции «Эхо Москвы» в 2009–2010 годах.
Масоны, братство вольных каменщиков… Кто они? Откуда они взялись в России, чем занимаются и к чему стремятся? Почему, несмотря на то, что их обвиняли в самых коварных заговорах, к ним принадлежали многие достойные и выдающиеся люди в России и во всем мире? Какое влияние они оказали на историю России? Почему масонские знаки стали неотъемлемой частью нашей жизни?
Гость передачи — доктор теологии и филологии Леонид Александрович Мацих.
Ведущая — Наргиз Асадова.
Братья. История масонства в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Масоны и русское изобразительное искусство (24.02.2010)
Н. АСАДОВА: В эфире передача «Братья», передача о масонах. У микрофона Наргиз Асадова и наш экскурсовод в мир масонства Леонид Мацих. Добрый вечер.
Л. МАЦИХ: Добрый вечер.
Н. АСАДОВА: Сегодняшняя тема передачи — масоны и изобразительное искусство. Об этом будем говорить сегодня. Как повлияли масоны, русские масоны, на изобразительное искусство в России. Мы будем говорить об Академии Художеств в Питере. И начнём, наверное, с такой фигуры неординарной, как Александр Фёдорович Лабзин.
Л. МАЦИХ: Очень правильный выбор. Он сам не был художником, но он был конферент-секретарём Академии Художеств, очень много сделал для улучшения администрирования дел в Академии и вообще в российском изобразительном искусстве. И кроме того, он был основателем ложи «Умирающий сфинкс», мы о нём упоминали в этой связи. И был выдающимся российским мистиком, без преувеличения можно сказать — основоположником российского мистицизма, как направление умов.
А поскольку пластические искусства — живопись, скульптура, графика и архитектура, прежде всего живопись во всех её проявлениях, они непосредственно связаны с взлётами духа, то тут мистицизм оказал формирующее влияние на всё русское пластическое искусство.
Н. АСАДОВА: Давайте сразу послушаем портрет Александра Фёдоровича Лабзина, который написал Алексей Дурново и озвучил Тимур Алевский.
Т. АЛЕВСКИЙ: Жизнь Александра Лабзина сложилась точно так, как и у многих деятелей культуры, которым не посчастливилось родиться в России с умом и талантом. Стремительный взлёт, а затем ещё более стремительное падение. Итак, молодой человек со способностями поступает в Московский Университет, получает там неплохое образование и ещё будучи студентом, посвящает свою жизнь литературе и переводам. В весьма юном возрасте сближается с масонами, приобретает от них, возможно, страсть к мистике, и наконец пробует перо в собственных сочинениях.
Так, в 1787 году Лабзин, 21 года от роду, преподносит императрице Екатерине оду на прибытие в Москву из путешествия в Тавриду. В том же году публикуется его перевод знаменитой комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». И дальше начинается настоящая литературная жизнь. Тут и многочисленные переводы, и собственные произведения, писанные в основном под псевдонимами. И даже журналистика, редактируемый и выпускаемый Лабзиным «Сионский вестник» становится весьма популярным чтением читающей публики.
Ещё до того, при Павле, Лабзин как нельзя кстати, перевёл «Историю ордена Святого Иоанна Иерусалимского». Павел, покровительствующий госпитальерам, и бывший их магистром, немедленно назначил Лабзина историографом ионитов. В общем, жил Лабзин припеваючи и при Екатерине, и при Павле и какое-то время при Александре. Сгубил его всё тот же «Сионский вестник», который он стал выпускать после некоторого перерыва. Журнал был фактически освобождён от цензуры, ибо Министром народного просвещения стал друг Лабзина князь Голицын.
Он вроде бы читал журнал и делал замечания, а на деле редактор публиковал на страницах издания то, что считал нужным. Тогда-то и посыпались обвинения в богохульстве, отрицание священного писания, распространение кощунственных учений. Духовная братия, заботившаяся о высокой нравственности общества, в конце-концов добилась своего, замучив редактора доносами и жалобами.
Цензурирование вестника передали редактору Петербургской Духовной семинарии Иннокентию. И журнал пришлось закрыть. Но враги Лабзина на этом не успокоились, и вскоре литератор и переводчик отправился в ссылку, где и умер через 4 года. Любопытно, что даже в Сибири он продолжал читать и даже изучал математику. Впрочем, давно известно, что образование для русского человека одна беда! С умом и талантом лучше бы рождаться где-нибудь в другом месте.
Н. АСАДОВА: Это был портрет сегодняшнего нашего героя Александра Лабзина. Вот таким видится он сегодня.
Л. МАЦИХ: Вот так, смелыми мазками, написано, одобрил бы Александр Фёдорович Лабзин. Он сам был человеком многообразным одарённым, и уже в ссылке, под конец его жизни, изучал высшую математику, которая тогда, на склоне лет, ему было уже под 60 крепко, он был очень болен, это ему никак пригодиться не могло. Он был любознателен.
Н. АСАДОВА: Самообразование, самосовершествование.
Л. МАЦИХ: Но среди всех его дарований не было ничего, что влекло бы его к живописи. Он был драматург, он был философ, он был историк, литературовед, сочинитель очень бойкий, экспромты писал поэтические. Вообще, его литературное наследие огромное. Там не всё равноценно, много вещей на злобу дней, устаревших давно, но интересно, при таких дарованиях ничего, что связано с живописью, не было.
А тем не мене, он был покровителем художников, душой многочисленных художественных салонов и человеком, о котором все художники, его современники, говорили с придыханием, восторгом и благодарностью.
Н. АСАДОВА: Как так случилось?
Л. МАЦИХ: Его путь был сложный. Он попал по чиновничьей линии в Академию Художеств на службу. Но он был в этом смысле идеальным чиновником-патроном, он никому ничего не навязывал, не говорил, как следует писать, а все усилия сосредоточил на том, чтобы улучшить содержание художников, выбивать больше пансионы, гранты по-современному говоря, чтобы улучшался быт художников, квартиры, которые они снимают, были бы всё лучше.
И он очень был чувствителен к поиску новых дарований. Он сумел создать микроклимат, своеобразную атмосферу в Академии, при которой старые мэтры — Рокотов, Левицкий, они не соперничали с юными дарованиями, скажем, с Боровиковским, а наоборот, стремились вытянуть на свой уровень, им протежировать и быть подлинными их наставниками.
Н. АСАДОВА: А известны ли фамилии, кроме Боровиковского, кого ещё из молодых художников, скульпторов вытащил?
Л. МАЦИХ: Он покровительствовал Веницианову, переписывался обширно с Левицким, заказывал ему портреты. Практически в российском художественном творчестве не было тогда ни одного крупного имени, которое не было бы связано с братством вольных каменщиков. Все великие портретисты — Боровиковский, Левицкий, Рокотов, они были масонами. Основатель жанровой живописи Венецианов тоже был масоном, Карл Иванович Брюллов, который считался по тем временам революционером русского изобразительного искусства. Он впервые в знаменитой картине «Последний день Помпеи» изобразил падающие статуи, передал движение, до этого была только статика. Он тоже был масон.
У Лабзина был широкий фронт работ, было большое поле для попечительской его деятельности. Но он этим не ограничивался.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: