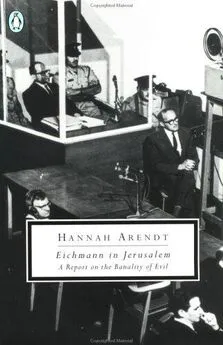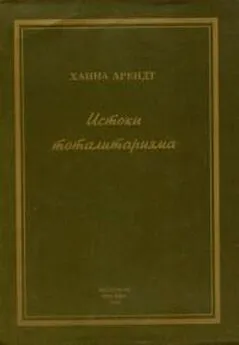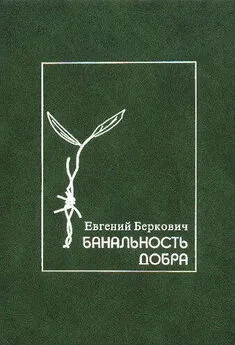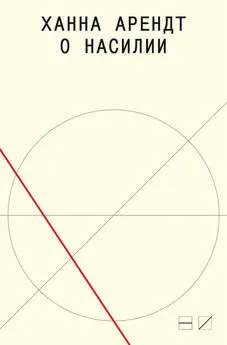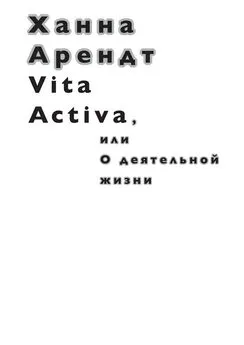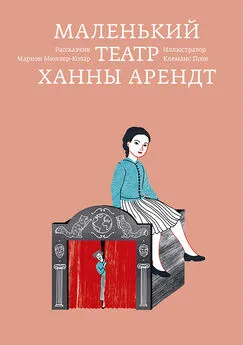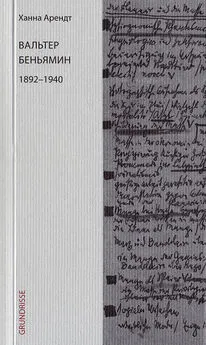Ханна Арендт - Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла
- Название:Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9739-0162-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханна Арендт - Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла краткое содержание
Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме — книга, написанная Ханной Арендт, присутствовавшей в качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде над Адольфом Эйхманом — бывшим немецким офицером. Сотрудник гестапо, он был непосредственно в ответе за уничтожение миллионов евреев. Суд проходил в Иерусалиме в 1961 году.
В написанной ей по итогам процесса книге Арендт анализирует происходившие события, стараясь дать им стороннюю оценку.
Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот вопрос совести, столь волнующий всех присутствовавших на процессе в Иерусалиме, ни в коей мере не тревожил нацистский режим. Напротив, ввиду величайшей редкости высказываний, подобных высказываниям Кубе, и ввиду того факта, что вряд ли кто из участников антигитлеровского заговора июля 1944 года вообще упоминал о массовых убийствах на Востоке в своей переписке или в заявлениях, которые они под-готовили на случай, если попытка убить Гитлера окажется успешной, можно прийти к выводу, что нацисты слишком уж переоценили практическое значение проблемы.
Среди худших эпитетов, которыми награждали Гитлера сто высокосознательные оппоненты, были слова «мошенник», «дилетант», «безумец» (заметьте, происходило это на последних стадиях войны) и — время от времени — «демон», «воплощение зла»: в Германии такими эпитетами порою награждают уголовных преступников. И никто из них не назвал его убийцей. Его преступления состояли в том, что он «вопреки совету специалистов пожертвовал целыми армиями»; порою упоминались концлагеря в Германии, куда ссылались политические противники, но практически никогда не упоминались лагеря смерти и айнзацгруппы — а ведь в заговоре участвовали те самые люди, которые лучше других знали о том, что происходило на Востоке. Эти люди, которые осмелились восстать против Гитлера, поплатились своими жизнями, и их смелость достойна восхищения, но их поступок был рожден не кризисом совести или знанием того, на какие муки были обречены другие: их подтолкнула к этому поступку исключительно убежденность в грядущем поражении и крахе Германии.
Такие люди, как философ Карл Ясперс (Карл Теодор Ясперс (1883–1969) — немецкий философ, психолог и психиатр, один из главных представителей экзистенциализма. В 1937 году Ясперс был лишен звания профессора и фактически постоянно находился под угрозой ареста вплоть до окончания Второй мировой войны.) из Гейдельберга, или писатель Фридрих П. Рек-Маллечевен (Фридрих Рек-Маллечевен погиб в Дахау в феврале 1941 года.), который был убит в концлагере незадолго до конца войны, были редким исключением, и в антигитлеровском заговоре они не участвовали. В своем почти неизвестном «Дневнике отчаявшегося человека» (Tagebuch eines Venweifelten, 1947) Рек-Маллечевен писал об «уничтожении целых народов», а когда он узнал о провале покушения на жизнь Гитлера, о чем он, конечно, сожалел, он написал о тех, кто готовил покушение: «Теперь, когда банкротство уже невозможно скрыть, они предали этот разрушающийся дом, чтобы создать себе политическое алиби — это были те же люди, которые перед этим предали все на своем пути к власти», — он не испытывал на их счет никаких иллюзий. Самой объективной и содержащей самое большое количество документов работой по этому вопросу является неопубликованная докторская диссертация «Кризис политического управления в немецком сопротивлении нацизму — его природа, происхождение и последствия», которую написал Джордж К. Ромоузер (Чикагский университет, 1958), она подтверждает суждение Рек-Маллечевена, за исключением нескольких незначительных определений, касающихся идеологических вопросов.
И хотя определенные нарекания и слышались, в особенности от членов «кружка Крайзау («Кружок Крайзау» получил свое название от поместья Крайзау, где собирался узкий круг политических единомышленников. Кружок состоял из сравнительно молодых аристократов. Его глава — владелец Крайзау, граф Гельмут Мольтке, — был экспертом по международному праву в Генеральном штабе и одновременно агентом военной разведки.)» — в нем говорили о том, что главенство закона «растоптано сапогами», — по черновику письма, адресованного бывшим бургомистром Лейпцига, а затем главой заговорщиков Карлом Фридрихом Герделером (Карл Фридрих Герделер был обер-бургомистром Лейпцига в 1930–1937 годах. В 1944 году возглавил Июльский заговор. После провала покушения на Гитлера 20 июля 1944 года был арестован и казнен.) фельдмаршалу фон Клюге, мы можем судить, что преступления не особо беспокоили противников Гитлера. В этом документе, датированном летом 1943 года, когда возглавляемая Гиммлером программа уничтожения достигла своего максимального размаха, Гёрделер предлагал считать Геббельса и Гиммлера потенциальными союзниками, «поскольку эти двое уже поняли, что ставку на Гитлера они проиграли». Гёрделер обращался к «голосу совести» Клюге, но это всего лишь означало, что даже вояка должен понимать, что «продолжать войну, не имея ни одного шанса на победу, — это явное преступление».
Совесть как таковая в Германии явно куда-то пропала, причем настолько бесследно, что люди о ней почти и не вспоминали и не могли даже представить, что внешний мир не разделяет этот удивительный «новый порядок немецких ценностей». А чем еще можно объяснить тот факт, что из всех людей именно Гиммлер в последние годы войны возмечтал о блистательной роли переговорщика от имени пораженной Германии с силами союзников? Потому что Гиммлера, кем бы он ни был, идиотом все-таки считать нельзя.
Из всех бонз в нацистской иерархии самым искушенным в решении возникавших перед совестью вопросов был именно Гиммлер. Именно он придумывал лозунги вроде знаменитого лозунга СС, выдранного из речи, произнесенной Гитлером перед ее членами в 1931 году: «Моя честь — моя преданность» — одно из тех клише, которые Эйхман называл «крылатыми словами», а судьи — «пустопорожней болтовней». Как вспоминал Эйхман, Гиммлер обычно одаривал ими в конце каждого года — что-то вроде рождественского бонуса.
Эйхман запомнил лишь один из таких лозунгов и постоянно его повторял: «Существуют сражения, которые будущим поколениям уже не придется вести» — этот лозунг явно намекал па «сражения» с женщинами, детьми, стариками и другими «лишними ртами».
А вот примеры других фраз, с которыми Гиммлер обращался к командирам айнзацгрупп и высшим чинам СС и полиции: «Держаться до конца, невзирая на слабости человеческой природы, сохранять сдержанность — вот что составляет нашу силу. Эта страница в нашей истории еще никогда не была написана и больше не будет написана никогда». Или: «Приказ решить еврейский вопрос — самый устрашающий приказ из всех, который может получить любая организация». Или: «Мы понимаем, что мы ожидаем от вас «сверхчеловеческого», что вы будете "сверхчеловечески бесчеловечными"». И, надо сказать, его ожидания были оправданы.
Однако стоит отметить, что Гиммлер редко прибегал к идеологическим формулировкам, а если и прибегал, то такие лозунги быстро забывались. В мозгах этих людей, превратившихся в убийц, застревала лишь мысль о том, что они участвуют в чем-то историческом, грандиозном, не имеющем равных («великая задача, решать которую приходится лишь раз в две тысячи лет»), и потому трудновыполнимом. Это важно, потому что эти убийцы не были садистами по своей природе, напротив, руководство предпринимало систематические усилия по избавлению от всех, кто получал от своих действий физическое удовлетворение. Айнзацгруппы набирались из подразделений СС армейского типа, военных соединений, имевших на своем счету ничуть не больше преступлений, чем регулярные подразделения немецкой армии, а их командирами Гейдрих назначал представителей элиты СС, людей с университетским образованием. И проблему представляла не их совесть, а обычная жалость нормального человека при виде физических страданий. Трюк, который использовал Гиммлер — а он, очевидно, и сам был подвержен таким инстинктивным реакциям, — был одновременно и прост, и высокоэффективен: он состоял в развороте подобных реакций на 180 градусов, в обращении их на самих себя. Чтобы вместо того, чтобы сказать: «Какие ужасные вещи я совершаю с людьми!», убийца мог воскликнуть: «Какие ужасные вещи вынужден я наблюдать, исполняя свой долг, как тяжела задача, легшая на мои плечи!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: