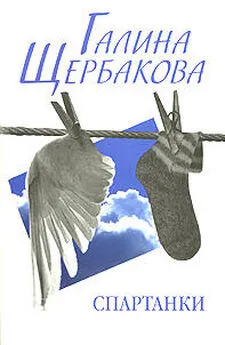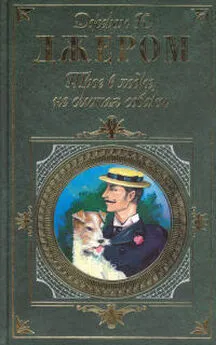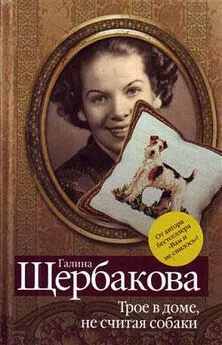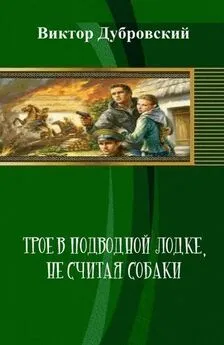Ирина Сталькова - Шестеро в доме, не считая собаки
- Название:Шестеро в доме, не считая собаки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Знание
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Сталькова - Шестеро в доме, не считая собаки краткое содержание
Народный университет
Педагогический факультет
№ 4 1989
Защитить от простуды и синяков, оградить от недобрых слов — работа одинаковая для всех мам на свете. Но главное, научить ребенка быть человеком, дать сыну и дочери силу и умение отличать плохое от хорошего, противостоять злому. Обо всем этом узнает читатель из новой книжки многодетной матери Ирины Стальковой.
Шестеро в доме, не считая собаки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В третьей четверти у моей Насти вдруг оказалась четверка по литературе — невиданное явление! «Людмила Ивановна сказала, что могла бы „пять“ мне поставить, но она боится, что тогда про нее скажут, что у нее есть любимчики», — объяснила мне дочка. А я-то учила: «Верь только себе, слушай свое сердце и отстаивай свое убеждение». Бог с ней, с этой случайной отметкой — у меня на глазах веселая, улыбчивая Людочка всего за год превратилась в раздраженную и замотанную Людмилу Ивановну, которая и ушла в конце года. А потом сменился и директор.
Но неужели вот это и есть конец? Ведь все-таки где-то в старой тетрадке крупным косым почерком выведено ну абсолютно непонятное детям японское трехстишие:
Заплыла лягушка
К нам через порог.
Ранняя весна!
На глазах детей проходит не только материнская, но и учительская жизнь, и они примеряют нас на свои худенькие плечики, как в десять лет тайком наряжались во взрослые платья.
Едва добрел,
Усталый, до ночлега,
И вдруг — глициний свет, —
твержу я молча непривычные трехстрочные стихи, думая о своем отрочестве, о том, как и меня освещал внезапный свет человечности, как свет таинственных цветов — глициний. Я отлично помню это подростковое состояние как бы «между» двумя мирами: миром кукол и опрятных тетрадок — и пустотой. Нет, они еще вздыхают, эти взрослые: «Ах, молодость, молодость!» У них все в молодости было прекрасно — чудесно — ясно — прелестно — пусть, может быть, и так, зато сейчас сидят, едят, о какой-то дурацкой работе говорят, подумаешь, инженеры, что они там могут наинженерить, вот над пошлым анекдотом заржали. Чтоб я стала, как они, да никогда! — примерно так я думала в те годы. И поэтому мне жаль девочку Юлю, которая мучается от того, что они с мамой никак не найдут общего языка. Юля пишет мне, что хочет и не может передать матери свое восхищение и преклонение перед мальчиком Сережей: сколько она ни говорит — мама не понимает ее, все задает и задает свой единственный вопрос, такой нелепый: «Ты с ним не живешь?»
Но сейчас я сама мать, и я понимаю эту бедную Юлину маму и ее далеко не такой дурацкий, как кажется Юле, вопрос. Мама спрашивает дочку: «Ты еще не испортила себе жизнь?», только не может объяснить эту свою боль и тревогу, не может найти слова — ее не понимают. И если маму интересует жизнь дочери, то дочь интересует ее собственная жизнь и отношение к этой личной жизни мамы, а не мамина жизнь как таковая.
Дети наши — наше неизвестное будущее, мамы наши — наше неизвестное настоящее. Так много знает Юля про своего Сережу и так мало про маму. Как мама с папой познакомилась, как полюбила его, как вообще это было — мама в Юлины шестнадцать лет, только на самом деле, а не «туфта», как они говорят, и не «мура», как мы говорили. Может, пусть учитель расскажет Юле о ее маме? Но знает ли он о родителях своих учеников такие «мелочи»: кто кого и как любил?
Как трудно быть искренней вообще и со своим ребенком в частности. Никогда не знаю, как помочь в отношениях двоих уже взрослых людей: мамы и дочери. Но мне кажется, надо помнить об этом «недовзрослом возрасте» чуть ли не над колыбелью, надо учиться быть искренней — чем раньше начнете, тем лучше. Часто ли мы вспоминаем при детях свое отрочество и юность? Нет, не «Я в твои годы полком командовала», а всерьез: как ссорились и мирились с друзьями, с родителями, с учителями — а ведь мы ссорились, товарищи бывшие подростки.
Ох, я и ребенком была — страшно вспомнить! По литературе оценки в выпускном классе — пять, два, два, два, пять, пять, два и т. д. Пять — я соблаговолила ответить, «два» — не желаю. По химии, по физике — не выше тройки, а чтоб когда промолчать, если «душа горит» высказать свое мнение, ну конечно, не совпадающее с вашим, товарищ Ионыч! — пусть другие молчат. Самое трудное — преодолеть инерцию сложившихся отношений: стоило мне хоть на минутку замолчать, просто задуматься о чем-то, обязательно кто-нибудь — или ребята или учителя — спросит: «Ты не заболела? Что-то ты грустная». Приходится постоянно оправдывать их ожидания, и это в конце концов мучительно. В такой ситуации, когда сложился стереотип непонимания, когда стороны страдают в одиночку от того, что не слышат друг друга, но продолжают не слышать, — в такой ситуации нужен третий, и этим третьим может быть кто угодно, можем быть вы и я. Мне все время хочется спросить, не знаю только у кого, когда мне рассказывают о сегодняшних детях: «А дальше?» Ведь это клочочек жизни, лоскутик — а жизнь-то идет дальше, и вот пока мне мать что-то рассказывает, просит совета, уже что-то произошло, что-то сдвинулось, изменилось, и взгляды, и отношения меняются; «и сам, покорный общему закону, переменился я», так куда они меняются — к сближению, к отдалению от близких?
Та «трудная девочка», которой была я, однажды сбежала из дома. Нет, не в воровской притон и не к любовнику, а пошла я ночевать к подружке. Проболтали мы с ней всласть, поспали, а утром она собралась в школу (в этот момент у нее в отношениях с матерью было затишье, она сбегала из дому ко мне неделю назад). Мне в школу было далеко, да и не убегают из дома, захватив с собой учебники и тетради, так что я и не собиралась на занятия, но и слоняться по улице мне в одиночку не хотелось, а сидеть у Милки дома — тем более. И я пошла в школу к ней. И вот остановимся и представим на минуту ситуацию с другой стороны: вы учитель, и на ваш урок одна из учениц приводит девочку, объясняет, что та ушла из дома, где ее не понимают, навек, а пока посидит у вас на уроке. Что вы сделаете? Учителя моей подруги сказали: «Пусть посидит». Это ей сказали, а мне: «Садись с Милой рядом, а ты (это девочке, что с моей подружкой сидела) пересядь пока вот туда». И как в гостях и хлеб слаще, чем дома, так и мне хотелось отвечать на уроках в этой незнакомой мне школе, и я отвечала, и меня спрашивали — постороннюю! А после уроков меня позвали к директору. Я опять прервусь, чтоб задать вопрос: «Вот вы директор, вот вам говорят, что какая-то девица (см. выше) сидит целый день в вашей школе. — Что вы сделаете?»
А та, чьего имени я и не запомнила — казалось тогда это совершенно не важным, — усадила меня рядом и стала рассказывать мне о своем сыне. До сих пор помню эту историю в подробностях: как он опоздал, а она с ума сходила, думала, он умер, погиб (примечание для детей: мы, матери, всегда так думаем, когда вы задерживаетесь), а он пришел, и она ударила его по лицу. И тогда он ушел — всерьез, насовсем, навек. И сейчас, спустя столько лет, помню, как она спрашивала меня: «Ну скажи, я не имела права, разве я не имела права?» За пять минут до того я бы твердо ответила: «Нет!» Но первый раз в жизни я слышала «другую сторону» и первый раз в жизни не знала, что сказать. А она рассказывала: «Он ушел, а я наплакалась, потом выхожу, а он сидит на лестнице и лицо руками закрыл: „Как я теперь буду жить?“ Сынок, говорю, прости меня, ну зачем ты так, ведь это все мелочи, не стоит так из-за мелочей переживать». И мне: «Ну, скажи, ведь это ерунда, правда? Скажи, ведь не стоит так принципиально к мелочам подходить?» И опять я не могла ответить, потому что впервые в жизни думала о том, что быть матерью — значит страдать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: