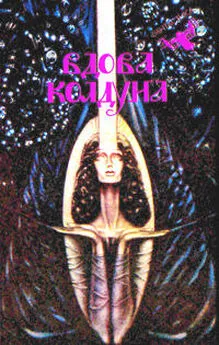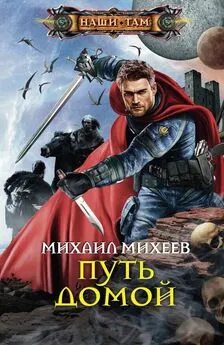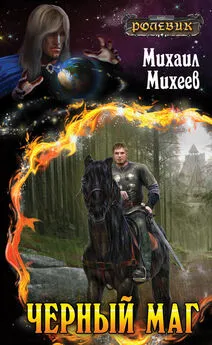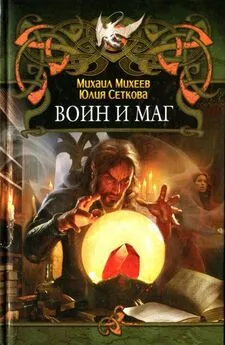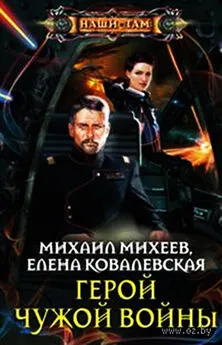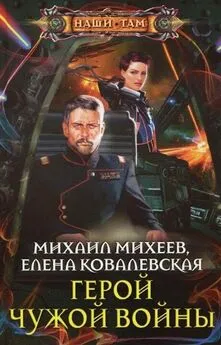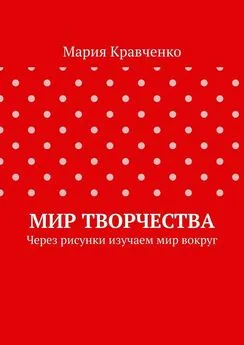Михаил Михеев - В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)
- Название:В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Михеев - В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) краткое содержание
В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(внешней формой этого образа является 'косное/ мертвое Тело'), но также можно было бы рассматривать этот образ и как дальнейшее развитие образа 'желудок'):
9.1. Душа как некий незримый, особо чувствительный орган внутри тела человека, невидимый внутренний житель, "сокровенный" человек, способный свободно перемещаться внутри тела как своего жилища (или даже выходить наружу, покидать его, поступая при этом как бы против воли хозяина, находясь где-то рядом и существуя как его двойник (Потебня 1874]. Само тело здесь может выступать как "клетка", а душа, будучи заключена в этой клетке, предстает там "узником", но, перемещаясь внутри тела, она способна "приводить в действие" или "оживлять своим присутствием - любые другие его рабочие органы:
Болеть душой за (кого-что-либо)/ Брать (хватать, трогать) за душу/ Истомить душу/ Душещипательный/ Истосковаться душой/ Оторвать от души/ Пилить душу (тупой пилой)/ Мягкая душа/ Окаменеть душой"; Согреть (душу) -'утешить, ободрить участливым, заботливым и т.п. отношением\\ оживить, осветить каким-л. светлым, радостным чувством'(МАС]; душа Замирает ; душа в Пятки уходит 's.o. experinces very strong fear' (Лубенская]
;
душа Не на месте - 's.o. feels restless, very alarmed (usu. in expectation of possible truble or a potential misfortune' (Лубенская]
1); или же
2);
(живут друг с другом) Душа в душу - '(two or more persons live) peacefully, happily, in complete agreement, fully understanding each other' (Лубенская]
1) или
2) ;
тут, кажется, следует также учитывать интерференцию смысла выражений Проникнуть в душу/ Проникновенно (что-то говорить)/ Проникнуться доверием (к кому-то); ср.: "проникновенный" - 'волнующе искренний, задушевный, отражающий внутреннюю убежденность' (МАС];
9.2. или как незаживающие раны на этом теле: душа Болит (ноет)/ Задевать (затронуть) за душу (как "задевать за живое")/ Разбередить (растравить) душ";
9.3. или душа как обиталище (укромное место, логово) живущих в ней диких зверей - чувств и страстей человека. Иногда самому человеку они могут внушать страх, за них бывает стыдно, от них он страдает, даже должен скрывать их присутствие от посторонних, но в то же время и бережет их - как своих питомцев или даже - как беременная женщина своего ребенка: Лелеять в душе (надежду), Вынашивать в душе (мысль, мечту), Затаить в душе (обиду, злобу и т.п.)
;
(Вообще говоря, 'раны на теле' и 'обиталище зверей' можно было бы рассматривать как субъектно-объектную контаминацию некого целостного представления души - как а) хищного зверя, или "грызуна" (Успенский] и б) арены его деструктивной деятельности.)
10.1. Душа как некий залог в отношениях человека со сверхестественными силами (Богом, дьяволом, судьбой, жизнью и смертью) или та часть в человеке, через которую осуществляется воздействие на него Богов (Иванов 1980]: Заложить душу/ Отдать душу (Богу)/ Отнять душу/ Продать душу/ Завладеть (чьей-то) душой/ Сидеть (стоять, торчать) над душой
.
Можно сказать, что здесь во всех описанных случаях действует сам гумбольдтовский "дух языка", который придает данному концепту специфические для него формы, представляя в приближенных к повседневному быту образах то, что иначе с трудом подвластно воображению. Исходный набор метафор можно рассматривать как "укоренившиеся ветви" на дереве языковых презумпций, а отходящие от них метонимии - как минимальные языковые "свершения", или ту языковую "игру", в которой язык собственно и проявляет себя, "живет" (отличаясь от других языков). Застывшие в нем, уже стершиеся от постоянного употребления словарные метафоры сохраняют свидетельства о разнообразных воплощениях "внутренней формы" данного слова (которую я здесь и пытался восстановить).
В работе Н.Д.Арутюновой (Арутюнова 1979] описано, как язык при помощи метафоры может приписывать, например, звукам некие "осязательные" свойства, а у цвета выделять свойства "температурные", подменяя при этом признаки предметов - "признаками их признаков": ср. мягкий матрас и мягкий звук, теплая вода и теплый тон, оттенок. Или, если истолковать эти метафоры: звук и оттенок .
Тем самым у звука и цвета как бы усматриваются и открываются новые модальности (шкалы оценок): по 'мягкости\ твердости' и по 'теплоте\ холодности'. Но ведь сам звук при этом не обязательно соотносить именно с матрасом, а краску - с водой. Сам типовой перенос значения тут уже произошел, и сейчас при употреблении данных слов не требуется привлечения их образов-прототипов (которые бы обладали этими свойствами в наибольшей степени). Данная ситуация, на мой взгляд, значительно отличается от той, которая имеет место при описанном выше процессе метафоризации души. Потому что там - помимо пополнения десигната приписыванием ему соответствующих свойств - происходит также и уподобление самому образу-прототипу (правда, не везде с одинаковой степенью отчетливости) - как наиболее типичному представителю внешнего мира, стандартно исполняющему роль, которая тем самым приписывается невидимому, ненаблюдаемому объекту, т.е. происходит расширение его денотата. Иногда эта связь с образной составляющей значения, как мы видели, может быть множественной, а в некоторых случаях она вообще перестает ощущаться - как для выражения не чаять души (в ком-либо) - тогда у данного выражения теряется его внутренняя форма и остаются только лишь абстрактные свойства, т.е. значение, описываемое традиционным толкованием. Оно начинает "жить" обычным в языке способом - с десигнатом, но без образной составляющей. Но для такого "безденотатного" слова, как душа, совсем избавиться от образной составляющей значения далеко не просто.
Так как значение любого слова, вообще говоря, способно увязывать вместе совершенно разнородные представления (на основе того или иного "усматриваемого" языком) сходства данного предмета (концепта) с другими, и так как сравнение значений по элементарным составляющим (логическим признакам) никогда не дает нам цельной непротиворечивой картины, то правильным было бы, как представляется, охватить разнородные элементы значения слова в неком целостном представлении. Для этого приходится заглядывать глубже, чем позволяет сделать собственно словарное значение слова, т.е. нужно обращаться к таким компонентам, как образы воображения, которые лежат в бессознательном, и связи внутри которых, в отличие от сознания, легко допускают совмещение противоречий (Лосев 1977].
ОТСТУПЛЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЕ.
Как из суеверий возникает причинность
(о "нанесении" смысла в человеческом сознании)
В работе (Цивьян 1985) описан словарь-тезаурус румынских народных примет и верований (конца 19 - начала 20 века), составленный неким Артуром Горовеи в 1915 году и включающий в себя 650 лексем, которые являются ключевыми для более чем 4500 правил (ниже правила помечены соответствующими номерами, взятыми из этой книги). Такие правила, когда-то руководившие поведением людей, живших в лоне традиционной культуры, теперь могут восприниматься нами как наивные, но именно их (при значительном пересечении румынского и русского фольклоров на этом уровне), как мне кажется, можно соотнести с теми способами проявления причинности, которые только что были рассмотрены у Платонова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: