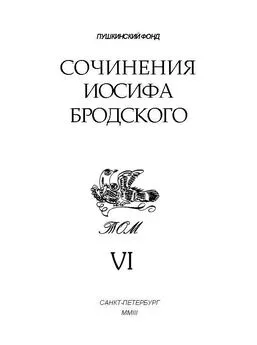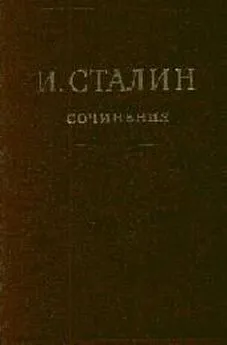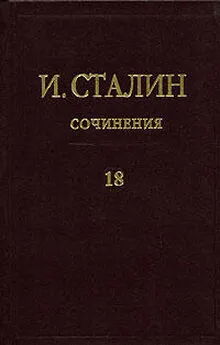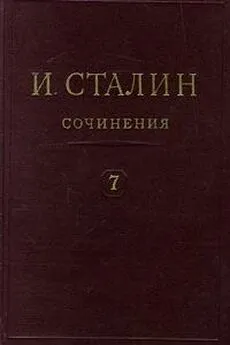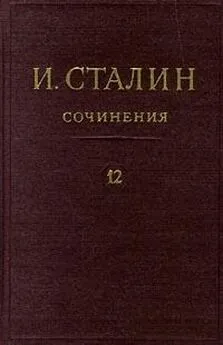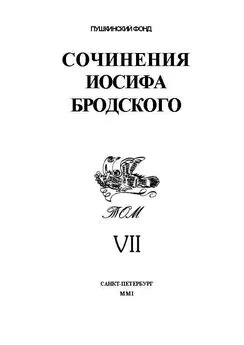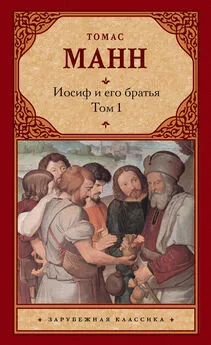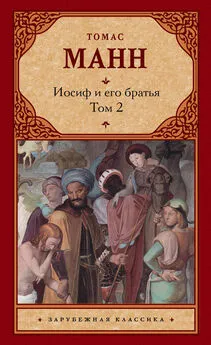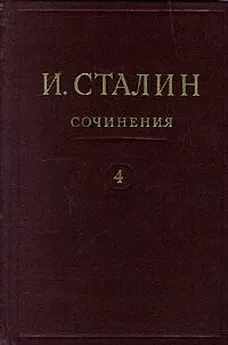Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VI
- Название:Сочинения Иосифа Бродского. Том VI
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пушкинский Фонд
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89803-063-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VI краткое содержание
Шестой том впервые полностью воспроизводит на русском языке книгу эссе И.Бродского "On Grief and Reason" (N.Y, 1995), составленную самим автором. Все эссе — кроме двух — в оригинале написаны по-английски.
После смерти поэта право на издание предоставлено "Фондом Наследственного Имущества Иосифа Бродского".
Сочинения Иосифа Бродского. Том VI - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Может быть, и нет. Может быть, мы слышим лишь нагромождение ударений, в лучшем случае своими “up/ warp/ up” вызывающее в воображении шум терновника под беспощадным ветром. На таком фоне безличное, безразличное слово “gazer” (“зевака”) прекрасно подходит, чтобы описать наблюдателя, лишенного каких бы то ни было человеческих характеристик (кроме зрения). “Зевака” годится здесь, поскольку он видит отсутствие нашего автора и, таким образом, не может быть описан в подробностях: вероятность не может быть чрезвычайно детализированной. Точно так же ястреб, машущий крыльями, как веками, пролетающий через “shades” (“тени”), движется сквозь то же самое отсутствие. Подобное рефрену “То him this must have been a familiar sight” (“Наверняка этот вид был ему хорошо знаком”) тем более пронзительно, что оно действует в обоих направлениях: полет ястреба здесь в той же мере реальный, сколь и посмертный.
Вообще красота этого стихотворения заключается в том, что все в нем умножено на два.
В следующей строфе, насколько я понимаю, речь идет о лете, и первая строка ошеломляет своей осязаемостью — “mothy and warm” (“мотыльковая и теплая”), тем более ощутимой, что она изолирована весьма мужественно сдвинутой цезурой. Но, говоря о мужестве, следует отметить, что только очень здоровый человек может созерцать ночную черноту момента своей кончины с таким присутствием духа, как в строке “If I pass during some nocturnal blackness…” (“Если я отойду в ночной черноте…”). Не говоря о более непринужденном обращении с цезурой. Единственный признак возможной тревоги здесь кроется в слове “some” перед “nocturnal blackness”. С другой стороны, слово “some” — один из кирпичиков, всегда имеющихся под рукой у поэта, если ему нужно сохранить размер.
Как бы там ни было, главный приз в этой строфе, несомненно, присуждается строке “When the hedgehog travels furtively over the lawn” (“Когда ежик украдкой переходит лужайку”), а внутри строки, конечно, слову “furtively” (“украдкой”). Остальное здесь менее живо и, бесспорно, менее интересно, поскольку наш поэт явно старается завоевать сердца публики сочувствием к миру животных. Это совершенно излишне, поскольку, в силу сюжета, читатель и так уже на стороне автора. К тому же, если бы возникло желание проявить здесь несговорчивость, можно было бы поинтересоваться, грозила ли всерьез этому ежику какая бы то ни было опасность. Однако на этом этапе никому неохота препираться по мелочам. Но и сам поэт, судя по всему, ощущает здесь нехватку материала. Поэтому он громоздит на свой гекзаметр еще три дополнительных слога — “One may say” (“Кто-то может сказать”) — отчасти потому, что, по его представлениям, неуклюжая речь ассоциируется с сердечностью, а отчасти — чтобы продлить время умирающему или время, в течение которого про него будут помнить.
Только в четвертой, зимней, строфе тема отсутствия начинает звучать в полную силу.
If, when hearing that I have been stilled at last, they stand at the door,
Watching the full-starred heavens that winter sees,
Will this thought rise on those who will meet my face no more,
“He was one who had an eye for such mysteries”?
Если, узнав, что я наконец упокоился, они встанут у дверей
И взглянут на полное звезд небо, что видно зиме,
Осенит ли тех, кто больше не встретит мое лицо, мысль:
“У него был наметанный глаз на подобные тайны”?
Начнем с того, что фраза “stilled at last” (“наконец упокоился”) включает в свой эвфемистический радиус и автора, который расстается со стихотворением, и смолкнувшую предыдущую строфу. Таким образом в текст вводится аудитория, более обширная, нежели “соседи”, “зевака” или “кто-то”, которой предлагается играть роль тех, кто “Watching the full-starred heavens that winter sees” (“Взглянут на полное звезд небо, что видно зиме”). Это необыкновенная строка. Природоописательная часть здесь ошеломляет и практически предвещает Роберта Фроста. Ибо зима действительно видит больше неба, поскольку зимой деревья — голые и воздух — прозрачный. Если на небе полно звезд, зима видит больше звезд. Эта строка — апофеоз отсутствия, и все же г-н Гарди хочет еще ее усилить: “Will this thought rise on those who will meet my face no more” (“Осенит ли тех, кто больше не встретит мое лицо, мысль”). Слово “rise” сообщает предположительно похолодевшим чертам того, кто “stilled at last”, температуру луны.
За всем этим, конечно, стоит старая идея про души мертвых, обитающие на звездах. И все равно оптическая буквальность этого высказывания ослепляет. Очевидно, когда мы видим зимнее небо, мы видим Томаса Гарди. Именно на такие тайны у него был наметанный глаз еще при жизни.
Но зоркий глаз у него был и на вещи более земные. Читая это стихотворение, начинаешь замечать, что люди, которые предположительно будут его вспоминать, располагаются в каждой следующей строфе все выше и выше. В первой они в самом низу, в пятой взбираются на самый верх. У любого другого это могло быть случайностью — но не у Гарди. Нужно также внимательно следить за их преображением — от “the neighbours” (“соседи”) к “a gazer” (“зевака”), к “they” (“они”), к “any” (“кто-нибудь”). Все эти слова неконкретные и, конечно же, безлюбовные. Так кто же эти люди?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте попробуем что-нибудь узнать про этих “any” и понять, чего он от них ждет.
And will any say when my bell of quittance is heard in the gloom,
And a crossing breeze cuts a pause in its outrollings,
Till they rise again, as they were a new bell's boom,
“He hears it not now, but used to notice such things”?
И скажет ли кто-нибудь, когда прощальный колокол зазвонит по мне во мраке,
И встречный ветерок вдруг прервет его звуки,
А потом они снова польются с другим колокольным ударом:
“Теперь он не слышит звона, а раньше замечал такие вещи”?
Здесь нет определенного времени года, то есть это — любое время. Это и любой “задник” — по-видимому, сельская местность, церковь в полях, звонит церковный колокол. Наблюдения, содержащиеся во второй и третьей строках, симпатичны, но для нашего поэта не представляют собой чего-либо выдающегося. И если “кто-нибудь” и скажет в его отсутствие “Не hears it not now, but used to notice such things” (“Теперь он не слышит звона, а раньше замечал такие вещи”), то этот кто-нибудь будет иметь в виду его способность описать все это. И еще: “such things” (“такие вещи”) — это звук, звук, прерванный ветром и вновь возвращающийся. Этот прерванный, но возобновляющийся звук можно воспринять здесь, в конце автоэлегии, как самоотсылочную метафору, и не потому, что звук, о котором идет речь, — это колокольный звон по Томасу Гарди.
Воспринять его можно так потому, что прерванный, но возобновляющийся звук — это, в общем, метафора поэзии — последовательность стихотворений, выходящих из-под одного и того же пера, последовательность строф в стихотворении. Это метафора и собственно для стихотворения “После меня”, со всеми его блуждающими ударениями и внезапно тормозящими цезурами. В этом смысле прощальный колокол никогда не замолкает — по крайней мере, если звонит он по Томасу Гарди. И он не замолкнет, покуда его “соседи”, “зеваки”, “они” и “кто-нибудь” — это мы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: