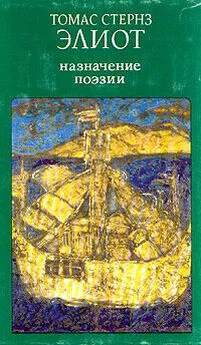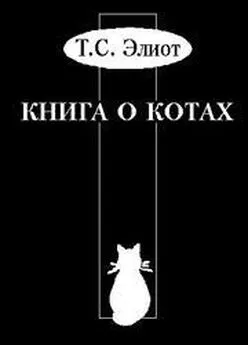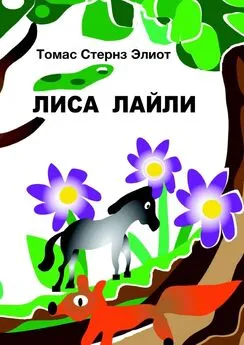Томас Элиот - Назначение поэзии
- Название:Назначение поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО Совершенство
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-89441-001-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Элиот - Назначение поэзии краткое содержание
В книге выдающегося англо-американского поэта, лауреата Нобелевской премии Томаса Стернза Элиота собраны теоретические статьи разных лет и цикл лекций «Назначение поэзии и назначение критики» (1933). Эта книга впервые представляет русскоязычному читателю Элиота — критика и теоретика литературы.
Перевод с английского.
Назначение поэзии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Представляю себе, как читатель в этом месте замечает: "Наверняка он это уже говорил и раньше". И я подскажу ему: в лекции о "Поэзии и театре" ровно три года тому назад я сказал: "В других поэтических жанрах поэт говорит своим собственным голосом, проверяет себя на слух, и то, как этот голос звучит, является для него критерием. Ибо он говорит от своего лица. Коммуникация, восприятие читателя, не столь важны…"
Возможно, я тогда не совсем ясно выразился, но смысл, по-моему, понятен, — настолько, что кажется даже очевидным. Я имел в виду только разницу между речью от своего лица и речью от имени персонажа и перешел далее к другим соображениям о характере стихотворной драмы. Я начинал понимать разницу между первым и третьим голосом, но не обратил внимания на второй, на котором подробнее остановлюсь здесь. Попытаюсь проникнуть немного глубже в суть проблемы. Итак, прежде чем перейти к другим голосам, я хотел бы немного обсудить сложности, связанные с третьим голосом.
В стихотворной пьесе часто приходится создавать язык нескольких персонажей, очень разных по происхождению, характеру, уровню образования и интеллекта. Ни один из этих персонажей не может представлять автора, и поэт не может отдать ему (или ей) всю "поэзию". Поэзия (то есть язык пьесы в самые напряженные драматические моменты) должна быть распределена между персонажами пьесы настолько, насколько это позволяют их характеры; в такие моменты герои должны говорить на языке поэзии, а не просто стихами, и их поэтический язык должен быть индивидуальным. В эти поэтические моменты со сцены не должен звучать просто голос автора. Поэтому автор ограничен в своих средствах и в выборе степени выразительности, ему приходится соразмерять их с персонажами пьесы. Кроме того, поэзия в театре должна быть оправдана ходом событий и конкретной ситуацией. Даже если данный персонаж может заговорить поэтическим языком, необходимо еще, чтобы такой язык убедительно соответствовал ходу развития сюжета, чтобы он служил средством выражения высшей точки эмоционального напряжения. Поэт, пишущий для театра, часто, как я уже говорил, делает две ошибки: дает гедою слова, не уместные в его устах, или даже уместные, но не способствующие развитию сюжета. У некоторых елизаветинских драматургов не первой величины встречаются строчки великолепной поэзии, которые неуместны в обоих отношениях — они достаточно хороши, чтобы пьеса навсегда вошла в сокровищницу литературы, но в то же время настолько не соответствуют цели, что считать такую пьесу шедевром нельзя. Более всего известны примеры из "Тамерлана" Марло.
Как же решали эту трудную проблему великие мастера стихотворной драмы, — Софокл, Шекспир и Расин? Конечно, сей вопрос интересен и для литературы в целом — романа, театральной прозы, — всюду, где можно говорить о характеристике персонажа. Лично я считаю, что характер может быть действительно живым только, если автор глубоко сочувствует ему. В идеале драматург, у которого в распоряжении гораздо меньше персонажей, чем бывает в романах, и их жизнь продолжается на сцене всего часа два, — драматург должен испытывать такое глубокое сочувствие ко всем своим героям. Но это только идеал, потому что сюжет пьесы даже с небольшим числом персонажей часто предполагает один-два таких, чье существование, не говоря уже об их роли в действии, не представляет для автора большого интереса. Однако я сомневаюсь, что характер злодея может быть достаточно убедительным, если ни у самого автора, ни у любого зрителя или читателя он не способен вызвать ничего, кроме отвращения. Для того, чтобы такой герой был совершенно живым, в нем должна быть некая смесь слабости с героической добродетелью или сатанинским злодейством. Яго для меня страшнее Ричарда Третьего, а Парол из "Конец — делу венец", пожалуй, даже убедительнее, чем Яго. (И конечно, Розамонда Винси в "Миддлмарч" для меня гораздо страшнее, чем Гонерилья или Регана). Мне кажется, что процесс создания важного персонажа двусторонний. Автор может наделить такого героя чертами своего собственного характера, достоинствами и недостатками, склонностью к насилию или нерешительностью, даже странностями, которые знает за собой. Возможно, чем-то не проявившимся в его собственной жизни, о чем даже самые близкие люди не подозревают, и что легче всего передать персонажу такого же темперамента, того же возраста и, в последнюю очередь, того же пола. Эта маленькая частичка самого автора может стать ядром, вокруг которого выстроится жизнь героя. С другой стороны, создавая персонаж, который ему интересен, автор иногда обнаруживает в себе самом нечто созвучное его характеру. Я полагаю, что автор наделяет своих героев какими-то своими чертами, но я также верю, что он сам испытывает влияние характеров, которые создает. Но не будем слишком глубоко вдаваться в лабиринты рассуждений о том, как рождается действительно живой характер, похожий на знакомых нам людей. Я хотел лишь немного приоткрыть дверь в этот лабиринт, чтобы указать на трудности, проблемы и захватывающую перспективу, которая откроется поэту, писавшему ранее от своего лица, а теперь приступающему к созданию воображаемых персонажей стихотворной драмы. А также на различия, пропасть между поэзией от первого и от третьего лица.
Особенность третьего голоса, голоса стихотворной драмы, можно показать и другим способом, — сравнив его с голосом поэта в недраматической поэзии, когда в ней есть элемент драматургии, — и прежде всего, в драматическом монологе. Браунинг как-то самоуверенно воскликнул, обращаясь к самому себе: "Роберт Браунинг, который пишет пьесы". Но кто из нас читал хоть одну пьесу Браунинга более одного раза? А если и читал, делал ли он это ради удовольствия? Какой персонаж из пьес Браунинга мы запомнили? С другой стороны, можно ли забыть Фра Липпо Липпи или Андреа дель Сарто, или Епископа Блуграма, или другого епископа, который заказывал себе гробницу? Полагаю, что эти факты — мастерство драматического монолога и весьма умеренные достижения Браунинга в драме — достаточно убедительно говорят о том, как существенно различны данные формы поэзии. Возможно, есть еще и другой голос, которого я не слышу, — голос поэта, чей драматический дар лучше всего выражается за пределами театра? Во всяком случае, если какую- нибудь поэзию не для сцены можно вообще назвать "драматической", то это, конечно же, поэзия Браунинга.
В пьесе, как я уже говорил, автору приходится сочувствовать всем, даже таким персонажам, которые не могут ему нравиться. И "поэзию" он тоже должен распределять на всех героев, чьи характеры дают ему такую возможность. Эта необходимость распределять поэзию предполагает различие поэтических стилей, которые должны соответствовать разным характерам. Тот факт, что в пьесе права на автора, на поэтическую речь имеют несколько действующих лиц, заставляет его искать поэзию в них самих, а не просто навязывать им свой стиль. Напротив, в драматическом монологе нас ничто не ограничивает. Автор волен отождествлять себя с персонажем или, с таким же правом, наоборот, ибо ему ничто не мешает — он не должен одновременно воображать себя каким-то другим героем, который взаимодействует с первым. На самом деле в драматическом монологе мы часто слышим голос именно поэта, который нарядился в костюм какого- нибудь исторического персонажа или загримировался под вымышленного героя. Его личность должна быть узнаваема как личность, или хотя бы как типаж, даже если он еще ничего не сказал. Если, как это часто бывает у Браунинга, поэт выступает в роли исторического персонажа, скажем, Липпо Липпи, или какого-нибудь вымышленного героя, вроде Калибана, это значит, что он присвоил себе его голос. И самый яркий пример — "Калибан о Сетебосе". В "Буре" мы слышим голос Калибана; в "Калибане о Сетебосе" сам Браунинг говорит устами своего героя. Великий ученик Браунинга Эзра Паунд ввел термин "персона" для исторических персонажей, которые говорят его собственным голосом, и это точный термин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: