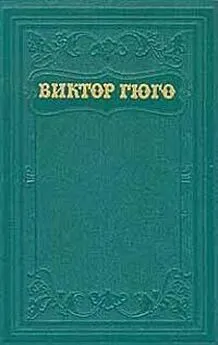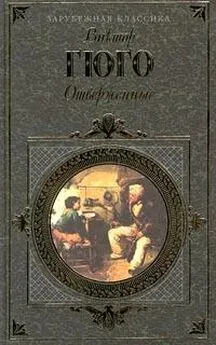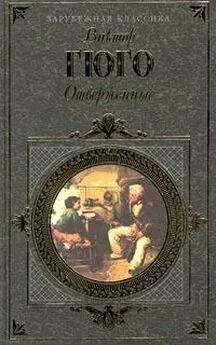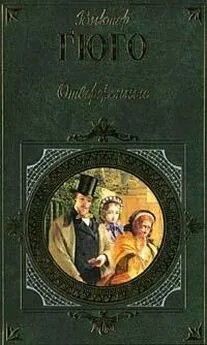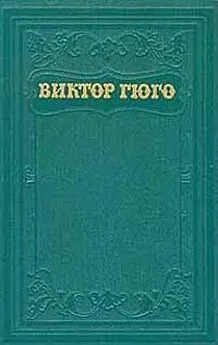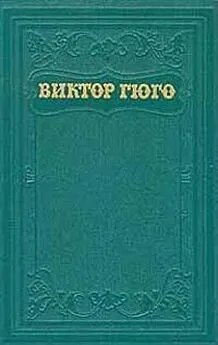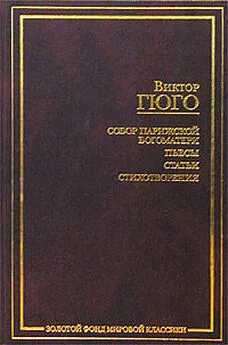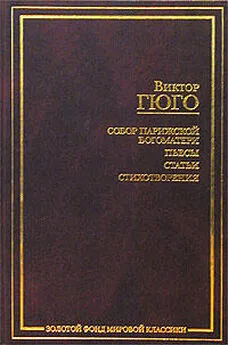Виктор Гюго - Том 15. Дела и речи
- Название:Том 15. Дела и речи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Гюго - Том 15. Дела и речи краткое содержание
В настоящий том включено подавляющее большинство публицистических произведений Виктора Гюго, составляющих его известную трилогию "Дела и речи".
Первая часть трилогии - "До изгнания" включает статьи и речи 1841-1851 годов, вторая часть - "Во время изгнания" - 1852-1870 годов, третья часть - "После изгнания" - 1870-1885 годов.
Том 15. Дела и речи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Среди этих знаменитых протестантов находился человек, которого Бонапарт некогда любил, кому он мог бы сказать, как сказал другой диктатор другому республиканцу: «Tu quoque!» [1] И ты тоже (лат.).
Этот человек, господа, был Лемерсье. Натура честная, сдержанная и скромная; ум прямой и логичный; воображение точное и, так сказать, алгебраическое даже в области фантазии; дворянин по рождению, но верящий только в аристократию таланта, рожденный в богатстве, но умеющий быть благородным в бедности; скромный, но какой-то высокомерной скромностью; кроткий, но скрывающий в своей кротости нечто упрямое, молчаливое и непоколебимое; строгий в общественных делах, нелегко дающий себя увлечь, омраченный тем, что ослепляет других, господин Лемерсье — замечательная черта у человека, отдавшего теории значительную часть своих помыслов, — господин Лемерсье строил свои политические выводы только на фактах. Но и факты он видел на свой лад. То был один из тех умов, которые уделяют больше внимания причинам, нежели следствиям, и охотно судили бы о растении по его корням, а о реке — по ее истокам.
Подозрительный и всегда готовый встать на дыбы, исполненный тайной и зачастую отважной ненавистью ко всему, что стремится господствовать, он, казалось, устремлял не меньше честолюбия на то, чтобы постоянно отставать на несколько лет от событий, чем иные тратят на то, чтобы опережать их. В 1789 году он был роялистом, или, как тогда говорили, «монархистом образца 1785 года»; в 1793 году он стал, по его словам, либералом образца 1789 года; в 1804 году, когда Бонапарт созрел для империи, Лемерсье почувствовал себя созревшим для республики. Как видите, господа, презирая то, что казалось ему капризом дня, он всегда избирал политическое направление по прошлогодней моде.
Позвольте мне привести здесь некоторые подробности о среде, в которой протекала молодость господина Лемерсье. Только исследуя истоки жизни, можно изучать становление характера. А если хочешь до конца узнать людей, источающих свет, то надо не меньше интересоваться их характером, чем их гением. Гений — это факел, светящий снаружи, характер — это лампа, горящая внутри.
В 1793 году, в разгар террора, господин Лемерсье, тогда еще совсем молодой, с редким усердием посещал заседания Национального конвента. То было, господа, мрачное, скорбное, устрашающее, но возвышенное зрелище. Будем справедливы — сегодня это не опасно для нас, — будем справедливы по отношению к величественным и грозным событиям, которые пронеслись над человеческой цивилизацией и больше не вернутся! На мой взгляд, по воле провидения во главе Франции всегда стоит нечто великое. При старых королях то был принцип; во времена империи — человек; во времена революции — Собрание. Собрание, разбившее трон и спасшее страну, вступившее в поединок с монархией, как Кромвель, и в поединок со вселенной, как Ганнибал; Собрание, наделенное одновременно гением всего народа и гением отдельной личности, совершавшее неудачные попытки и чудесные деяния; Собрание, которое мы можем ненавидеть и проклинать, но которым должны восхищаться.
Признаем все же, что во Франции в ту пору произошло некое затухание нравственного света и как следствие — обратите внимание, господа! — затухание умственного света. Подобное состояние полусвета или полумрака, схожее с вечерними сумерками, окутывает известные эпохи; оно необходимо, чтобы провидение могло во имя будущего блага человеческого рода свершить над состарившимся обществом те страшные насилия, которые были бы преступлениями, если бы исходили от людей, но, исходя от бога, зовутся революциями.
Это тень, отбрасываемая дланью господней, когда она распростерта над каким-либо народом.
Как я только что говорил, 1793 год не был эпохой высоких индивидуальностей, обособленных от общества в силу своего гения. Кажется, будто в этот момент провидение сочло человека слишком маленьким для того, что оно собиралось предпринять; оно отодвигает человека на второй план и само выступает на сцену. И действительно, в 1793 году из трех гигантов, совершивших французскую революцию: первого, представлявшего собой явление социальное, второго — явление географическое и третьего — явление европейское, — один, Мирабо, уже умер, другой, Сьейес, исчез, затмился, ему «удавалось выжить», как сказал позже этот трусливый великий человек; третий, Бонапарт, еще не родился для истории. Итак, за исключением, быть может, Дантона и Сьейеса, оставшегося в тени, в Конвенте не было людей первого плана, выдающихся умов, но были большие страсти, большие столкновения, яркие вспышки, великие иллюзии. Этого, конечно, хватало, чтобы ослепить народ — грозного зрителя, склонившегося над роковым Собранием. Добавим, что в ту эпоху, когда каждый день был сражением, дела шли так быстро, в Европе и во Франции, в Париже и на границе, на поле битвы и на городской площади совершалось столько происшествий, все развивалось так поспешно, что на трибуне Национального конвента значение того или иного события вырастало, так сказать, от слов оратора, по мере его речи; события кружили оратору голову и сообщали ему свое величие. Кроме того, подобно Парижу и Франции, Конвент действовал в сумеречном освещении конца века, придававшем огромные тени самым маленьким людям, сообщавшем неопределенные и гигантские очертания самым хлипким фигурам и окрашивающем это грозное Собрание чем-то мрачным и сверхъестественным даже на страницах истории.
Подобные чудовищные собрания людей нередко пленяли поэтов, как змея очаровывает птицу. Долгий парламент поглотил Мильтона, Конвент привлекал Лемерсье. Впоследствии каждый из них осветил изнутри свою мрачную эпопею каким-то отражением этого кромешного ада. В «Потерянном рае» ощущается Кромвель, а в «Пангипокризиаде» — Девяносто третий год.
Для юного Лемерсье Конвент был революцией, ставшей образом и сосредоточившейся перед его взором. Он ежедневно приходил сюда, чтобы увидеть, по великолепному его выражению, как ставят «законы вне закона». Каждое утро он являлся к открытию заседания и усаживался на трибуне для публики, среди тех странных женщин, которые любили сочетать какую-нибудь домашнюю работу с ужаснейшими зрелищами, — история сохранит за ними отвратительную кличку — «вязальщицы». Они его знали, ждали его и занимали для него место. Было, однако, в его молодости, в беспорядке его одежды, в его испуганном внимании, в его тревоге во время прений, в его пристальном взгляде, в прерывистых словах, вырывавшихся у него временами, нечто до того странное, что они считали его безумным. Однажды, придя позднее обычного, он услыхал, как одна из этих женщин говорила другой: «Не садись сюда, это место идиота».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: