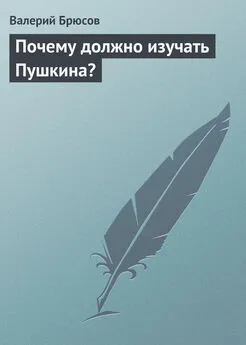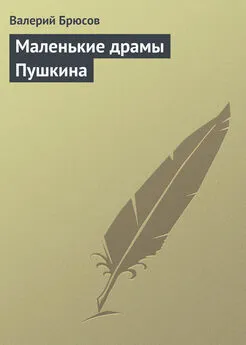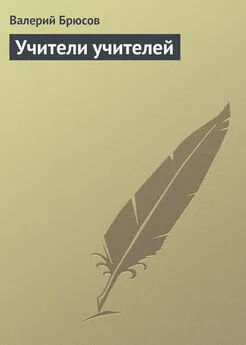Валерий Брюсов - Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей
- Название:Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Брюсов - Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей краткое содержание
Настоящее собрание сочинений В.Я. Брюсова — первое его собрание сочинений. Оно объединяет все наиболее значительное из литературного наследия Брюсова. Построено собрание сочинений по жанрово-хронологическому принципу.
В настоящий том вошли избранные статьи о жизни и творчестве Пушкина, статьи об армянской литературе, а также большое исследование о взаимоотношениях культур народов мира — «Учители учителей».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот что говорит по этому поводу такой авторитет египтологии, как Масперо (Ars Una, Египет, стр. 8-10): «Древнейшие могилы, предшествующие исторической эпохе, до сих пор не дали нам ничего такого, что доказывало бы исключительное развитие художественного чувства у первобытных египтян. Предметы, добываемые в могильниках, указывают на любовь к украшениям, к разукрашенной утвари, но совершенно такую же, нисколько не высшую, как у большинства полуцивилизованных племен… Ничто здесь не может выдержать сравнения с живописью и со скульптурой эпохи северного оленя, находимой в пещерах современной Франции и Испании… И однако, как только от этих, лишенных точной даты, произведений переходишь к созданиям исторических династий, тотчас встречаешь тысячи предметов и памятников, которые, художественностью своего выполнения, дают египтянам, в области искусства, исключительное место среди всех народов Древнего Востока. Там, где раньше были лишь попытки трудолюбивых ремесленников-учеников, зачатки мастерства, не уверенного в самом себе, — внезапно появляются, почти без какой бы то ни было явной переходной стадии, создания истинных мастеров-художников и техника, доведенная до законченности и совершенства. Не должно ли заключить из этого, что, в период между двумя этими эпохами, какой-то, пришедший извне, народ наложил свое влияние на жителей Египта, принеся им то понимание прекрасного и то умение реализовать его, какими до той поры египтяне не обладали?» Сам Масперо высказывает далее сомнения в справедливости своей гипотезы, но другой, которая могла бы ее заменить, все же не находит.
Факт остается фактом. Даже выискивая черты сходства между грубыми примитивными изделиями доисторических эпох с художественными созданиями времен династических, Масперо принужден сознаться, что — «то, что прежде создавалось чисто инстинктивно, теперь стало являться, как результат сознательно направленной воли». Кто же сумел направить волю египтян к исканию прекрасного и к его осуществлению? Кто полудиких обитателей Нильского оазиса, которые отставали в деле художества от своих современников, ютившихся в пещерах Франции и Испании, превратил в народ художников, быстро занявший первое место среди всех культурных народов ранней древности и сохранивший это положение в течение сорока веков? Что произошло в Египте в ту эпоху, о которой молчит история, но которая непосредственно предшествовала первым, известным нам, историческим фактам?
Традиционная египетская хронология, предложенная еще Манефоном (в III в. до Р. X.) и, в общем, соблюдаемая и новыми историками, делит египетскую историю по династиям правивших фараонов. Новейшие исследования выяснили многое о временах «додинастических» (предположительно, раньше 3400 г. до Р. X.), но все, что сохранилось от этих отдаленных эпох, рисует египтян той поры народом, не ушедшим вперед, сравнительно с другими современными народностями Передней Азии. Напротив, времена первых династий (от 1-й до 6-й, предположительно от 3400 до 2475 г. до Р. X.) выступают, как эпохи изумительного культурного подъема. Историк Брэстед, признанный авторитет египтологии, не находит слов, чтобы достойно возвеличить этот период, особенно время 3-ей -6-ой династий, говорит о «замечательном развитии материальной культуры в течение этих четырех столетий», о «блеске и могуществе» Древнего Царства, о «небывалой высоте», достигнутой искусствами и ремеслами и т. п., утверждая даже, что эти вершины художественного творчества никогда позднее не были превзойдены самими египтянами (Брэстед, 1,15). Всем памятны три величайшие пирамиды Египта близ Гизе: Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Менкура. Трудно установить с точностью время их построения, но несомненно, что то была одна из древнейших эпох египетской истории, и традиция, с которой соглашается Брэстед, относит возникновение великих пирамид именно к 4-ой династии, к XXIX и XXVIII столетию до Р. X. Египтяне времен «додинастических» были небольшим народцем, мало чем выделяющимся среди других, окружающих восточное побережье Средиземного моря и долину Двуречья; египтяне начала 3-го тысячелетия до Р. X. оказались способны на архитектурный подвиг, равного которому не знала вся древность и повторить который сам Египет позднее уже был не в состоянии.
На основании памятников можно проследить, как вырабатывалось в Египте строительство пирамид. Первоначально то была невысокая квадратная «мастаба»; потом, через наложение следующих, все уменьшающихся этажей-слоев, возникла форма «ступенчатой пирамиды»; наконец, с заполнением ступеней и возведением остроконечной вершины, была установлена полная пирамидальная форма. Однако знакомство с этим историческим процессом ни в коем случае не объясняет, почему именно в эпоху 4-й династии пирамиды вдруг получили размеры, небывалые дотоле и не повторенные в будущем. И раньше, до фараонов 4-ой династии, уже сооружались полные пирамиды; но они были безмерно меньше, чем каменные горы, воздвигнутые Хеопсом, Хефреном и Менкура. Позднее, после 4-ой династии, египтяне также продолжали строить пирамиды, позднейшие фараоны также выказывали притязание обессмертить свое имя созиданием гигантских каменных усыпальниц для своей мумии, но все следующие пирамиды тоже безмерно меньше Хеопсовой, не могут идти с ней, по размерам, ни в какое сравнение. Разница подавляла сознание, египтяне позднее отказывались верить, что это они — сами, их предки, воздвигли каменные чудеса в бесплодной пустыне. Строители великих пирамид, в историческом Египте, почитались существами божественного происхождения, а самые Гизехские пирамиды — созданием сверхъестественных сил.
Как бы подробно ни восстанавливали мы эволюцию пирамидального зодчества, все же загадкой останется тот факт, что вдруг для Египта явилась возможность создать одно из семи «чудес света»: на берегах Нила, в большой отдаленности от мест, где можно добывать потребный для строительства материал, возвести искусственные горы из гигантских каменных глыб по определенному, строго выполненному, плану, с замечательным, вполне достигнутым, техническим совершенством. Вдруг рождаются в Египте фараоны, задумывающие такое небывалое предприятие; вдруг появляются зодчие, дерзающие на такой подвиг и оказывающиеся способными его осуществить успешно; вдруг открываются сношения с далекой заморской страной (Пунт), откуда, особым флотом и по вновь проложенным дорогам, везут нужный материал, добытый в специальных каменоломнях; вдруг находятся сотни тысяч рабочих рук, покорных единой воле; главное же, — вдруг строители оказываются во всеоружии необходимых математических, чисто геометрических и разного рода технических познаний, без которых немыслимы подобные сооружения, а в распоряжении тех же строителей оказываются приспособления для перевозки тяжелых глыб на протяжении тысячи верст, всевозможные инструменты для рубки и тески твердого камня, мощные машины для подъема страшных тяжестей на высоту сотых этажей, мастерские для выработки медных листов, которыми были облицованы стороны пирамид, и многое другое подобное. Египтяне сразу проявляют себя народом высококультурным, обладающим огромными познаниями, большим техническим навыком и неизмеримыми средствами; великие пирамиды встают к небу, на диво всем будущим путешественникам, вплоть до современных туристов… Но проходит одно столетие, полтора столетия, и так же вдруг, так же внезапно, отважное строительство кончается. Никто из позднейших фараонов не решается соперничать с Хеопсом. Египет, как государство, растет, крепнет, превращается в империю, включившую в свои пределы значительную область Передней Азии и часть Эгейских островов; египетская культура расцветает ярко и пышно, подчиняя своему влиянию окрестные страны; наука и искусство в Египте делают гигантские шаги вперед; но подвиг древних строителей остается непревзойденным. В XXIX веке до Р. X. египтяне могли строить великие пирамиды, в последующие века — не могли. И хочется повторить вопрос Масперо: «Не должно ли заключить из этого, что в период между двумя этими эпохами (т. е. между „додинастической“ и эпохой после первых династий) какой-то пришедший извне народ наложил свое влияние на жителей Египта, принеся им то понимание, в данном случае, великого и то умение реализовать его, каким до той поры египтяне не обладали?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: