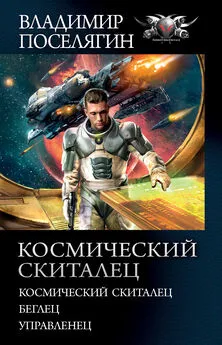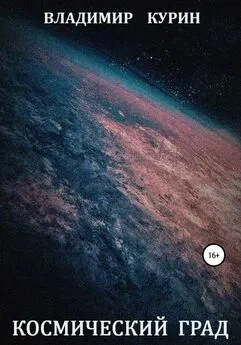Леонид Владимиров - Советский космический блеф
- Название:Советский космический блеф
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Possev-Verlag, V. Gorachek KG
- Год:1973
- Город:Frankfurt
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Владимиров - Советский космический блеф краткое содержание
СССР втихомолку отказался от «лунной гонки» с Соединенными Штатами и американские астронавты, а не советские космонавты первыми высадились на Луну, хотя в лунной американской программе есть большие сомнения.
Мы предлагаем вашему вниманию сенсационный текст, ставящий под сомнение успехи советской космонавтики, по крайней мере, после 1965 года. Зададимся вопросом, были ли мы всегда первыми в космосе или наш приоритет в его освоении закончился в 1965–1970 гг.? Сразу же предупредим всех насчет нашего антипатриотизма — мы публикуем этот текст, хотя сами в силу своих патриотических чувств не совсем с ним согласны, с минимальными купюрами, чтобы все-таки восторжествовала правда. Мы первыми летали в космос, но почему тогда не высадились первыми на Луне? Действительно не хватало только денег или как всегда победил советский непроходимый маразм? Или наша киноиндустрия не дотягивала до уровня Голливуда, чтобы организовать постановочную киносъемку такого уровня? Впрочем, если бы у Наполеона была советская газета «Правда», мир никогда бы не узнал о его поражении под Ватерлоо.
Советский космический блеф - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда в 1948 году зародилась и стала бурно развиваться кибернетика, она тоже была немедленно объявлена в СССР «буржуазной идеалистической лженаукой» и строжайше запрещена. Хотя этот запрет был в 1956 году снят, советские вычислительные устройства все еще отстают от западных на два поколения.
В конце сороковых годов в советской научной литературе прекратились все ссылки на теорию относительности и «сиониста» Эйнштейна, а в 1951 году вышел даже сборник «Против идеализма в современной физике», где клеймилось «идеалистическое эйнштейнианство». По счастью, до полного отрицания теории относительности дело все-таки не дошло. Зато полностью отрицалась и долгие годы предавалась официальной анафеме резонансная теория химических реакций.
Если сегодня идеологическое притеснение науки и не доходит до таких крайностей, то оно, тем не менее, существует и отражается на науке и ученых крайне болезненно. Когда моя работа над этой книгой уже подходила к концу, в «Правде» появились одна за другой две истерических статьи, требовавших «усилить идеологическое воспитание научных кадров». В одной из них содержалась открытая угроза по адресу тех ученых, которые, по выражению автора, «бравируют своей беспартийностью». Этих людей «Правда» обвинила в том, что они «подставляют бок врагу». Понятие некоего «идеологического врага», принимающего разные личины в зависимости от текущего момента («американский империализм», «западногерманский реваншизм», «международный сионизм») служит постоянным пугалом для всего советского населения и, в частности, для ученых.
Идеологический пресс крайне вреден для науки еще по той причине, что создает атмосферу нервозности, склоки и взаимного недоверия в научных учреждениях. Способности людей не одинаковы, и одна из областей, где индивидуальные различия сказываются особенно сильно, — как раз наука. Специалист, оказавшийся несостоятельным в своей науке, редко обладает достаточным мужеством или достаточной честностью, чтобы признать этот факт и уйти. Обычно он приписывает свои неуспехи либо судьбе, либо — что опаснее — «проискам врагов». В советских условиях у бесталанного специалиста есть хорошая возможность оставаться на работе в научном учреждении и даже мстить более удачливым коллегам за их талант. Эта возможность состоит в том, чтобы стать идеологическим ортодоксом, произносить «правильные» речи на партийных и иных собраниях, ставить под подозрение более способных, но менее «идеологически выдержанных» коллег. При минимуме ловкости такой неудачник в науке быстро делает политическую карьеру в научном учреждении — становится партийным организатором института, а там, глядишь, выдвигается в еще более крупные начальники. Поскольку такая карьера неизбежно строится на обвинениях против честных людей — в подавляющем большинстве вымышленных обвинениях, — постольку атмосфера в институте, где есть такой «идеолог», становится подчас невыносимой. К несчастью, малоспособных людей вообще больше, чем талантливых, и «идеологи» отыскиваются всегда. А как только начинается в институте или ОКБ склока и травля наиболее способных по идеологическим мотивам, так сразу прекращается плодотворная научная деятельность, если даже до того она и велась.
Третий порок, страшно мешающий развитию науки в Советском Союзе — консерватизм в промышленности. Это, конечно, относится к прикладным наукам, где результат должен воплощаться в те или иные технические новинки. К этой категории принадлежит и ракетное дело, принадлежит изучение космоса, и через несколько строк я приведу поразительный пример из этой области.
Предварительно скажу лишь, что система централизованного планирования выпуска продукции, от которой не помогают отделаться никакие робкие реформы, мощно противостоит внедрению в технику всего нового. Любая перестройка налаженного производства — это его замедление или временная остановка. Это бесконечные хлопоты по «добыванию» нужных материалов, оборудования и так далее. Во имя чего же стоит идти на такие неприятности? Во имя проблематичных премий «за внедрение»? Так еще когда это «внедрение» произойдет! Куда спокойнее работать над текущей, освоенной и знакомой продукцией!
Так в Советском Союзе рассуждают (про себя, конечно) абсолютно все руководители промышленных предприятий. Ни один из них не станет по собственной инициативе ломать налаженное дело, чтобы вводить даже очень соблазнительное усовершенствование. Изобретатели — самые несчастные люди в Советском Союзе. Их официально положено поддерживать, но на деле их ненавидят, потому что они вечно требуют внедрения своих работ. Новое появляется на советских заводах только под нажимом сверху, а пока такого прямого нажима нет — любая инициатива снизу подавляется под всевозможными предлогами, вплоть до личного шельмования изобретателей, до кампаний клеветы и гонений на них.
Почти так же принимаются на предприятиях новые научные разработки. От них, конечно, труднее отказаться, чем от выдумок изобретателя-одиночки, но и тут у директоров предприятий есть богатый арсенал оттяжек, проволочек, дополнительных экспертиз и так далее. Испытанный прием заключается, например, в том, что машину, разработанную в ОКБ, завод передает на экспертизу другому ОКБ — даже если перед тем машина прошла государственные испытания. Там, в другом ОКБ, чаще всего находятся «ревнивцы», которые, независимо от объективных качеств машины, стараются бросить тень на ее конструкцию или выгодность применения. Затевается переписка, в дело втягиваются все новые и новые организации, а тем временем завод штампует свою прежнюю продукцию и горя не знает.
2 сентября 1956 года «Правда» поместила мою статью, озаглавленную «Что препятствует творчеству изобретателей». Я приводил там сногсшибательные примеры «торможения» очень полезных работ. Статью, как водится «обсуждали», писали в «Правду», что «меры приняты». Но лишь одна из названных мною разработок была через год или два внедрена в практику — да и то потому, что к тому времени уже существовали успешные зарубежные образцы.
Вот этот неодолимый консерватизм в промышленности влияет по закону обратной связи и на прикладные (даже не только прикладные) науки. Ну, в самом деле, стоит ли стараться, напрягать силы и нервы, если твоя разработка будет все равно надолго «заморожена», а может быть и совсем не пойдет в практику? Гораздо проще и удобнее взять готовую конструкцию или принцип или технологический процесс из иностранного журнала и просто предложить к внедрению. Авторитет зарубежной техники — это никогда не признается открыто — очень велик в СССР, и иностранное происхождение, как правило, дает новинке более легкий путь в производство. Нет пророка в своем отечестве…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
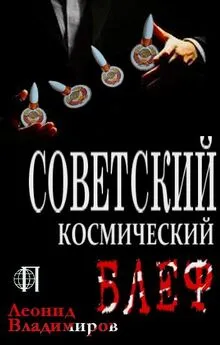

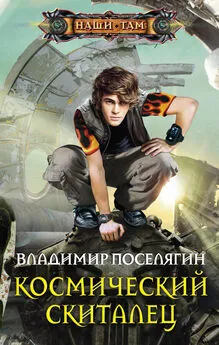
![Владимир Поселягин - Космический скиталец: Космический скиталец. Беглец. Управленец [сборник litres]](/books/1057816/vladimir-poselyagin-kosmicheskij-skitalec-kosmichesk.webp)
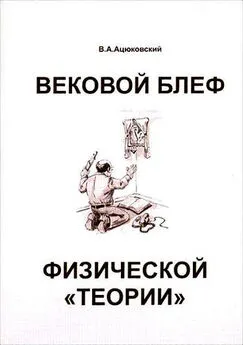
![Владимир Батаев - Космический автосервис [СИ]](/books/1148719/vladimir-bataev-kosmicheskij-avtoservis-si.webp)