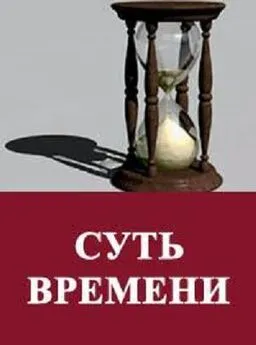Сергей Кургинян - Суть времени. Цикл передач. № 31-41
- Название:Суть времени. Цикл передач. № 31-41
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кургинян - Суть времени. Цикл передач. № 31-41 краткое содержание
Конспект цикла видеопрограмм («антишоу») «Суть времени» в которых Сергей Ервандович Кургинян обсуждает ключевые проблемы страны и мира.
http://eot.su
Суть времени. Цикл передач. № 31-41 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену:
— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу…
— Чего ты? — удивилась Алена.
— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь. Не важно.
Алена долго лежала, изумленная.
— Ты никак выпил?
— Да нет!.. Ты любила меня или так… по привычке вышла? Я сурьезно спрашиваю.
Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.
— Чего это тебе такие мысли в голову полезли?
— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня… как-то… заворошилось. Вроде хвори чего-то.
— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь спомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?
— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.
— Коровенку выгони завтра в стадо, я совсем забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.
— Куда? — насторожился Матвей.
— Да не на покосы на твои, не пужайся.
— Поймаю — штраф по десять рублей.
— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.
— Ладно.
Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?
«Дурею, наверно, — грустно думал Матвей. — К старости все дуреют».
А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей «гармозой». Как его долго нет, он начинал беспокоиться…
…сидел и поджидал…
— Слышь-ка!.. Проснись, — (разбудил он ещё раз жену
— Чего тебе? — С.К.)
— Ты смерти страшисся?
— (Совсем — С.К.) Рехнулся мужик! — ворчала Алена. — Кто ее не страшится, косую?
— А я не страшусь.
Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало и… Нет, не жалко. Повидал много.
Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет — тревожно и сладко…
А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил… А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.
Прошла неделя.
Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой… И было тихо.
Матвей плохо спал. Просыпался, курил… Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо.
…Женился тот гармонист. (Баста — С.К.) Бросил якорь.
Если кто-то скажет, что это не Сартр, то мне это странно, если это не Сартр и не Камю. Но это и глубже, чем Сартр и Камю, потому что вот этот образ «слились воедино конь и человек и летели в чёрную ночь, и ночь летела им навстречу… полёт… ничего не видно: ни земли, ни неба, ни головы, только ночной огромный мир стронулся… Ни о братишке не думалось, ни о чём не думалось…»
Это всё — «о чём ты воешь, ветр ночной?» Тут Шукшин наследует Тютчеву, наследует огромному пласту русской классической литературы… Ну, в частности, «Живой труп» Толстого. Вот это ощущение непосильности, противопоставления свободы и воли, этой самой полноты, которая, конечно, адресует к Абсолюту, к Великой тьме. Или к тем водам, которые должны объять сущее, если верить стихам Тютчева.
Именно ощущение того, что сейчас брат умирает… этот шок вообще самой возможности смерти… дальше, этот полёт на коне… И он вдруг понимает, что есть то, что выводит его за рамки обусловленности. Обусловленности телом, обусловленности формой, обусловленности конечным…
А что находится за рамками этой обусловленности? Он кричит и хочет туда.
Я знаю героических военных, которые очень любили прыгать в пропасть с парашютом и очень долго его не раскрывать. И вот они прыгали в эту пропасть, кричали — и только через какое-то время дёргали кольцо. И момент, когда они летят в эту черноту и кричат — вот этот момент, когда хотелось одного — освободиться от любой обусловленности.
То же самое, например, описывает Лорка в своей известной статье «Теория и игра беса», где одна великая актриса приехала из города, где она пела в главном оперном театре в столице Испании, в своё село, где знатоки знали, как надо петь. И она решила спеть для односельчан. Она поёт, односельчане слушают. И вообще никто не хлопает и ничего не выражают. И смотрят на неё с соболезнованием. Она поняла, что провалилась перед главной аудиторией — перед своими односельчанами. Тогда она потребовала себе очень крепкой испанской водки, обожгла себе горло этой водкой и снова запела.
Когда она запела второй раз, то, после того, как она кончила петь, село взорвалось неслыханными аплодисментами. Она поняла, что она победила.
Лорка говорит, что здесь она кинулась в эту пустоту. Она кинулась в чёрную ночь. И он говорит, что вот это есть игра беса, а всё остальное — есть теория.
Мы помним строки Пастернака: «И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба». Это уже то, что находится за некими последними пределами.
Итак, в тот момент, когда Матвей Рязанцев, маленький мальчик, ощущает, что сейчас умирает его брат, когда он впервые сталкивается с феноменом смерти, когда в его душу это закрадывается — он инстинктивно, чтобы изгнать всё это, кидается в это растворение, в эту потерю формы — в то, что находится за гранью любой и всяческой обусловленности, и в то, что предлагает Великая тьма — «ночной огромный мир».
Это даже не Сартр, не Камю. Это круче.
А когда он возвращается, уже имея этот опыт, он видит смерть. Он видит «иссиня-белого чужого мальчика», своего же брата и воющего отца. И он понимает, как устроен мир. И он прячется в раковину работы, алгоритма, деятельности, заорганизованности. Он помещает себя в этот корсет. И расшатывает этот корсет музыка.
Недаром один из героев «Волшебной горы» Томаса Манна говорил главному герою Гансу Касторпу: «Бойтесь музыки, инженер, ибо музыка — есть стихия бесконечного». Она, будучи предельно формализована и абстрактна, одновременно несёт в себе дух бесконечно-необусловленного. Если кого-то это интересует, то стоит внимательно прочесть статью Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
Дух музыки… «Бойтесь музыки, инженер».
Эта гармонь здесь выступает, как вот эта музыка — та самая дионисийская стихия, которая для Ницше противостоит аполлоническому миру форм. Тому аполлоническому миру, в который погрузил себя Матвей Рязанцев в тот момент, когда он испытал этот экзестенциальный, дионисийский опыт и бежал от него. Ему всё время вспоминается только этот опыт.
Я мог бы прочитать десятки рассказов Шукшина, в которых непрерывно прослеживается та же самая экзистенциальная тема.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: