Юрий Давыдов - Заметки практика (Вместо предисловия)
- Название:Заметки практика (Вместо предисловия)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Заметки практика (Вместо предисловия) краткое содержание
Архивная работа, повседневная и, так сказать, невидимая миру, необходима. Причин несколько. Постараюсь их изложить. А вот одну, личную, объяснять толком не умею. Как-то так получилось, что смолоду испытывал властное влечение к старинным рукописям.
Заметки практика (Вместо предисловия) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Даже и при наличии фактов непреложных возникает разрыв между ними и правдой психологической.
В первый день судебного процесса по делу 28 революционеров-народников, процесса, по которому проходил и Дмитрий Лизогуб, в Одессу прибыл палач Фролов. Отношением на имя министра его вытребовал военный генерал-губернатор Тотлебен, герой Севастополя и Плевны. Стало быть, две недели спустя, формально утверждая предрешенные смертные приговоры, Тотлебену не следовало испытывать тесноту и тяжесть в груди. А Лев Толстой, рассказывая об этом («Божеское и человеческое»), писал, что старый воин, убежденный монархист и суровый администратор, почувствовал колотье сердца.
Толстой не видел, не читал конфиденциальной бумаги, пригласившей в Одессу заплечных дел мастера еще за две недели до резолюции военного суда. Но если б и видел, если б и читал —убежден — написал бы то, что написал.
Фактор психологический глубже факта исторического. Движения души подчас не покоятся ни на логике, ни на отвлеченных идеях.
Сопротивление «голой» истории сказывается и в другом. История не заботится о романисте. Бывает так, что в гуще событий драматических словно бы ни с того ни с сего возникает фигура негероическая. Я не говорю о каком-нибудь клерке или филере, глазами которого автор видит трагедию, хотя и признаю сей способ достойным усилий художника. Нет, я имею в виду литератора, умного, «непростого», однако в известном смысле рядового. Построив повесть об Александре Михайлове не пересечении двух «лучей» — рассказа второстепенного писателя Зотова и рассказа третьестепенной (вымышленной, но типической) народницы Ардашевой,— я, не скрою, весьма опасался, что повесть об Александре Михайлове сочтут повестью не об Александре Михайлове. И все же, надеюсь, то была повесть о Михайлове, отразившемся в двух зеркалах.
Каждому практику исторического жанра известна особенность истории: она, матушка, словно бы приустав, начинает топтаться на месте, кружить и пятиться. Семеня за нею на короткой приструнке, рискуешь придать повествованию вялость, опасную для репутации сочинителя,— эта воловья вялость вызывает подозрение, высказанное однажды публицистом прошлого века: господи помилуй, уж не кастраты ли пишут такие книги?!
Забота о динамике сюжета дает литератору право не только на целесообразный вымысел и домысел, но и на хронологические сдвиги. Гете казнил Эгмонта на двадцать лет раньше палача. А. К. Толстой последовал за Гете и отрубил голову своему персонажу за пять лет до срока... Зная об этом, я, работая над романом «Март», все же долго ежился, прежде чем позволил героине — весьма известной в истории «Народной воли» — преждевременно разрешиться от бремени: боялся гнева специалистов (не акушеров, а знатоков темы).
Вообще на первых порах меня крепко стреноживала колдовская сила документа, его прельстительная архаика. От этих чар я не свободен и ныне, но теперь, кажется, сие уже осознанная необходимость.
Вероятно, нет нужды подчеркивать вкус современного читателя к документализму. Никому уж не приходит в голову сравнивать подлинную речь героя, приведенную в романе, с его сапогом, привешенным на портрет этого героя. Есть, однако, правило, где-то писанное,— архивные фонды романа необходимо скрыть от читателя. Подобно тому как от зрителя, любующегося половодьем, скрыты быки, подпирающие ажурный мост. Или закулисное от сидящих в театральном зале.
Согласен, если речь о том, что документ торчит из текста, застревает, как кость в горле читателя, то есть включен немотивированно, без эстетической надобности. Да, согласен, но однажды откровенно нарушил это правило, надеясь, что документ обретет особое значение.
В повести «Судьба Усольцева» я описал малоизвестную историю 80-х годов прошлого века. Искатели града Китежа — мужики, мастеровые, горсть интеллигентов — отправились за моря и учредили в Африке колонию, рассчитывая жить-поживать братски и справедливо. В числе колонистов был медик. Дневников или мемуаров он не оставил. Изменив фамилию, назвав доктора Николаем Николаевичем Усольцевым, я «выдал в свет» его воспоминания. И снабдил постраничными примечаниями (дополняющими или уточняющими), почерпнутыми из подлинных источников, указывая названия архива и фонда. Стало быть, обнажил опорные быки, повел читателя за кулисы. Нареканий критики не последовало.
Кстати, о критических разборах исторического жанра. От советов удерживают соображения личной безопасности, но тут не совет, а просьба присмотреться к стилистике исторической прозы: проблематика — рассматривается, поэтика — удостаивается легкого касания. Что ж делать практику? Обратиться к метрам?
Один скажет, что многие исторические беллетристы «тратят жизнь на детское подражание устарелым оборотам и на употребление слов, вычеркнутых навсегда из нашего словаря». Другой укажет, что худший вид неправдоподобия — реконструкция истории языком, не свойственным этой эпохе.
Прислушиваться к метрам полезно; слушаться — бесполезно. Каждый здесь борется в одиночку. У разного времени разный ритм и цвет. У диалога — словарь один, у внутреннего монолога — несколько иной. Есть архаизмы сгнившие, а есть архаизмы сверкающие. Одного нет — рецептов. И слава богу.
Вероятно, искус стилистикой, тональностью проходят и авторы романизированных биографий. Не утверждаю, а предполагаю, ибо не писал их. Не помню, кто высказался, помню самое высказывание: ничего, мол, так не боюсь, как мышей и беллетризированных биографий. Я разделяю эту боязнь. Она субъективна. Внушать ее другим нет смысла. Да и не с руки, речь веду о собственных посильных опытах. А они, так сказать, антироманизаторские.
Вот два мнения о биографическом жанре:
— Самый скверный и лживый род литературы,— сердился В. В. Розанов.
— Прекрасное искусство,— настаивал Андре Моруа.
Наша современница на вопрос: «Вы много читаете?» — ответила: «Очень. Это моя страсть. Но не романы, а главным образом биографии». Она, однако, не уточнила, какие— романизированные или документа л ьные? Мне, автору последних (вышли в серии «Жизнь замечательных людей» — «Головнин», «Нахимов», «Сенявин»), хотелось бы думать, что предмет ее страсти именно документальные биографии. А если я ошибаюсь, то все же скажу, как они сделаны.
Домысел минимален. И всякий раз сигнал — осторожно, здесь догадка, предположение. Интимная жизнь не раскрыта, недостаток существенный, но в моем распоряжении не было ничего домашнего, семейного, так, крохи. Пользуясь мемуарами, не забывал разговор профессора М. М. Ковалевского с А. Ф. Писемским. Профессор недоумевал, отчего Алексей Феофилактович не напишет воспоминания? Писемский улыбался: «Пробовал, напишу со страницу и чувствую, что лгу, а воздержаться не могу. Ну, я и бросил». Не все воздерживались, и не все бросали. Оно, может, и к лучшему, да только вынуждает держаться начеку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
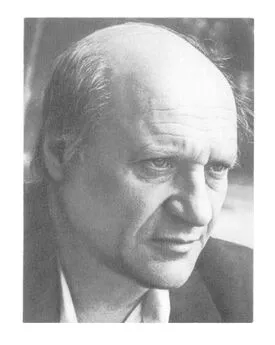



![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/books/522135/yurij-nagibin-vmesto-predisloviya-k-sborniku-vremya.webp)