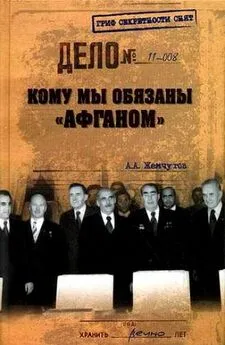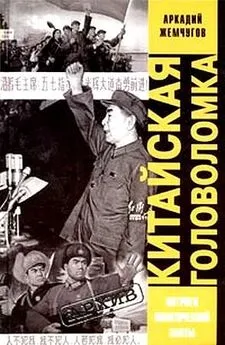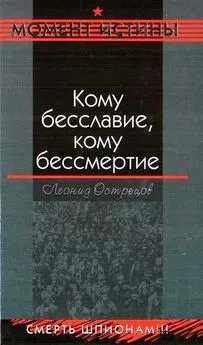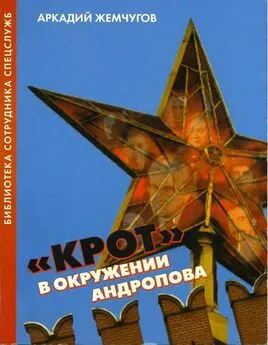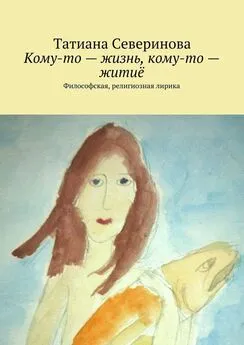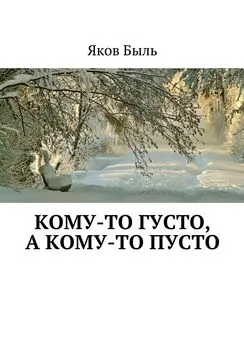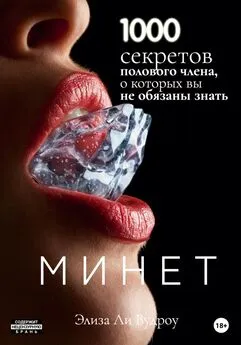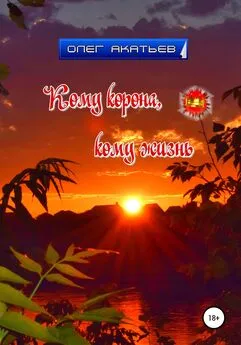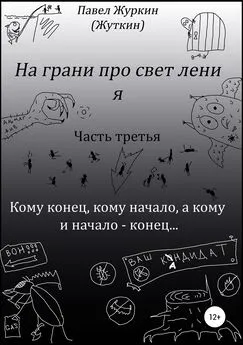Аркадий Жемчугов - Кому мы обязаны «Афганом»?
- Название:Кому мы обязаны «Афганом»?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2012
- ISBN:978-5-9533-5973-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Жемчугов - Кому мы обязаны «Афганом»? краткое содержание
Проходит время, и то, что вчера считалось великой государственной тайной, перестает ею быть. Тайна становится общим достоянием и помогает понять логику и героических, и трагических событий в истории нашей Родины. Афганская эпопея, на первый взгляд, уже не является чем-то секретным, запретной темой, которую лучше не затрагивать. Но ни в одной из появившихся в последнее время публикаций нет внятного, однозначного ответа на вопрос: кому мы обязаны «афганом»? Свои истинные цели в Афганистане Старая площадь скрывала как только мота. Даже принимая 12 декабря 1979 г. решение о вводе войск, она не осмелилась дать однозначное объяснение, во имя чего советская армия вторгается на территорию дружественного нам государства.
Реконструкция событий 1979 г. позволяет не просто проследить от начала до конца весь процесс «вызревания» окончательного решения о вводе в Афганистан «Ограниченного контингента советских войск», но и понаблюдать за тем, как вела себя при этом Старая площадь, верховная, ни перед кем не подотчетная инстанция власти в Советском Союзе.
Книга издается в авторской редакции.
Кому мы обязаны «Афганом»? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Начиная с 1955 г. советское вооружение и боевая техника стали достоянием афганской армии, а советские специалисты и советники — надежными помощниками афганцев в деле их освоения.
С помощью и прямым участием шурави в различных районах Афганистана стали строиться десятки промышленных предприятий и ирригационных систем, а также гидростанций и аэродромов. Началась прокладка сотен километров шоссейных дорог. В Кабуле не могли не видеть, как при поддержке Советского Союза страна, пусть не так быстро, как хотелось бы, но все же преображается, выкарабкивается из трясины средневековья.
Резко повысился уровень межгосударственных контактов. В июле-августе 1957 г. в Советском Союзе с государственным визитом побывал король Захир-шах. В октябре 1958 г. последовал ответный визит в Кабул председателя президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова. Чуть позже Москву посетил министр иностранных дел Афганистана Мухаммад Наим. В мае 1959 г. в Москву вновь прибывает Мухаммад Дауд и подписывает соглашение о расширении советско-афганского экономического и технического сотрудничества. В мае 1960 г. дружественный визит в Афганистан нанес Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев. Афганцы встретили его как дорогого гостя. А в 1964 г. в Кабул наведался Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев.
Двусторонние отношения Москвы с Кабулом становились настолько тесными, что, как выразился сотрудник Совета национальной безопасности США Гарри Сик, «Афганистан стал считаться советской сферой влияния и мы давно отошли от этой страны». Ту же самую мысль, но иными словами, высказывали в Комитете начальников штабов США: «Афганистан более не представляет никакой стратегической важности для Соединенных Штатов». Более того, американские дипломаты и политики зачастую злословили, что Кабул, мол, строго придерживается «нейтралитета, но с советским креном».
Разумеется, что подобного рода заявления и высказывания представителей США были, как в таких случаях принято говорить, «хорошей миной при плохой игре». Признавая на словах Афганистан сферой советского влияния, Вашингтон, тем не менее, не вычеркивал его из перечня своих геополитических приоритетов. Скорее, наоборот, повышал рейтинг Афганистана в своей глобальной политике.
«Москва, занимая доминирующие позиции в Афганистане, — бил тревогу 3. Бжезинский, — в состоянии разорвать прямые связи между крайними западными и дальневосточными евразийскими союзниками США». [67] Бжезинский 3. План игры. М.: Прогресс, 1986. С. 201–202.
Комментарии здесь излишни. Афганистан по определению не мог быть исключен из геополитических прикидок Вашингтона. Как, впрочем, и Москвы.
Взвалив на себя роль могильщика капитализма и предводителя всех угнетенных народов мира в деле построения счастливого будущего — социализма, Старая площадь не мота не думать о том, чтобы подверстать своего южного соседа к реестру стран «социалистической ориентации», таких как Южный Йемен, Эфиопия, Ангола и многих других, для которых социализм виделся желанным раем, а Москва — надежным проводником в этот рай. Вся закавыка была в том, что Афганистан, хоть и считался сферой советского влияния, не мыслил о том, чтобы расстаться со своим нейтралитетом, а тем более согласиться поменять веру мусульманскую на коммунистическую. И то и другое напрочь исключалось. А это шло вразрез с геополитическими планами Старой площади, с ее мессианскими надеждами.
Вот как эту мысль, правда, несколько витиевато, изложил в своих мемуарах В. Крючков:
«Нельзя не учитывать суть афганской проблемы, заключающейся в необходимости учета интересов Советского государства, что в эпоху тогдашнего противостояния в мире делало это весьма серьезным аргументом». [68] Крючков В. А. Личное дело: Часть первая. М.: Олимп; ACT, 1997. С. 242.
В соответствии с этим «аргументом», а проще говоря, со своими мессианскими задумками, Старая площадь и действовала.
Глава третья
Б. Кармаль: «Россия хотела, чтобы здесь произошла революция»
«Были у нас товарищи, считавшие, что в Афганистане есть все условия для создания пролетарской партии и революции», [69] Еженедельник «Власть». 25 ноября — 1 декабря. 2002. С. 77.
— вспоминает Николай Григорьевич Егорычев. Уж кому, как не ему, знать потаенные от народа помыслы главных обитателей Старой площади?! Ведь он сам, как первый секретарь московского горкома КПСС и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, был сопричастен ко всему, что там происходило.
«Тот же Борис Николаевич Пономарев, заведующий Международным отделом ЦК (и тоже кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. — А. Ж .), — продолжает он, — как был в молодости приверженцем мировой революции, так и остался. Без всякого учета местных условий создали Народно-демократическую партию Афганистана — фактически две партии под одной крышей. Во фракцию «Парчам» входили в основном пуштуны, а в «Хальк» — представители других народов, населявших Афганистан». [70] Там же.
В пестрой по национальному составу стране, каким является Афганистан, вполне закономерно появление политических, культурных и прочих организаций, представляющих интересы той или иной общины. За примерами ходить недалеко. «Сетаме-мелли» («Национальный гнет») возникла как оплот таджиков, узбеков и туркмен в борьбе против пуштунского засилья. В свою очередь, «Афган меллят» («Афганская нация») была создана националистически настроенной пуштунской интеллигенцией с целью защиты своих панафганских устремлений.
Но «Парчам» и «Хальк» — случай особый. И в той, и в другой фракции пуштунов было хоть отбавляй. Все руководящие посты были заняты ими. И в этом плане суждение Н. Г. Егорычева относительно национального принципа формирования «Парчам» и «Хальк» представляется не бесспорным. Американский эксперт по Афганистану С. Гаррисон склоняется не к национальному, а к социальному фактору.
«Идеологический конфликт между «Парчам» и более доктринальной «Хальк», — утверждает он, — маскировал то, что было основными социальными различиями между двумя группами. Большинство парчамистов являются выходцами из находящихся под персидским влиянием городских высших классов. Даже те парчамисты, которые этнически были пуштунами, говорили на языке дари — афганском варианте персидского языка, и в культурном отношении были изолированы от пуштунского большинства страны. Наоборот, халькисты представляли собой восходящий, только что получивший образование средний класс пуштунов из небольших городов и сельских местностей, который хотел пуштунского доминирования в афганской жизни». [71] Harrison S. Dateline Afghanistan: Exit through Finland? Foaeign Policy. 1980–1981. Winter, № 41. p. 166–167.
Интервал:
Закладка: