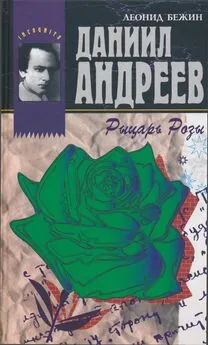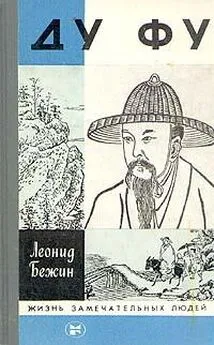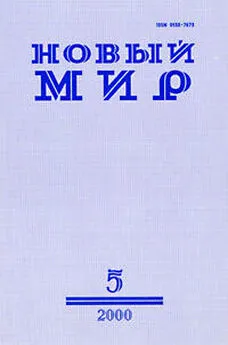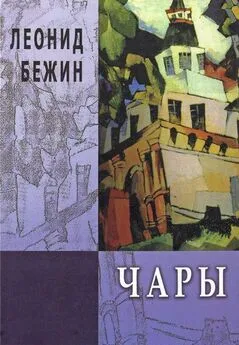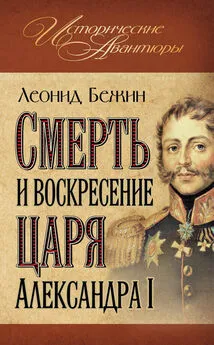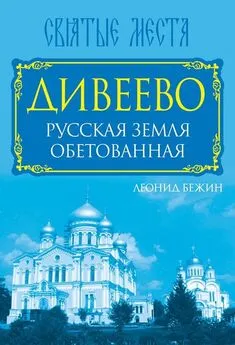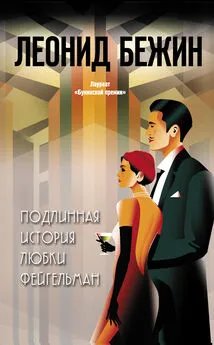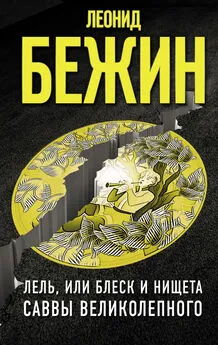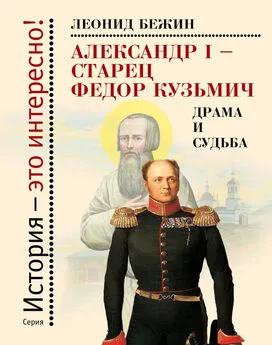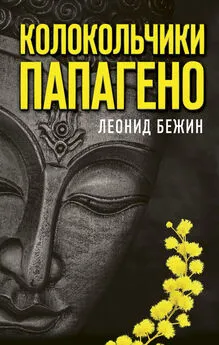Леонид Бежин - Даниил Андреев - Рыцарь Розы
- Название:Даниил Андреев - Рыцарь Розы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Энигма
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-94698-032-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Бежин - Даниил Андреев - Рыцарь Розы краткое содержание
Эта книга благодаря собранным по крупицам свидетельствам современников и документам позволяет восполнить пробелы в сведениях о жизни и творчестве великого русского мистика Даниила Андреева и воскресить его во многом автобиографичный роман «Странники ночи».
Увлекательное исследование Леонида Бежина адресовано самому широкому кругу почитателей творчества Даниила Андреева.
Даниил Андреев - Рыцарь Розы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я почувствовал, что к словам, языку у них совершенно особое отношение, и не только к языку! Внимательно присмотревшись к обстановке, к окружающим меня предметам, я обнаружил, что у этого бревенча того, деревенского, нехитро убранного домика, хатки, избушки своя — не побоюсь сказать! — творческая атмосфера! На стене скрипка… в углу пианино, покрытое кружевной дорожкой… и какие кружева! С тончайшими узорами, напоминающими разводы первого осеннего льда на высохших лужах или блестки горной слюды, — их плетет Лидия Яковлевна, художница, мастерица, виртуоз своего дела. Что там дорожки и салфетки — она вам из кружев сплетет миниатюрный чайный сервиз: чайник, чашечки и даже кружевной самовар! Кружевной самовар, знаете ли, — эка диковинка! Спрашиваю: «Выставляете? Продаете?» Нет, не продает, хотя уговаривают, уламывают, сулят немалые деньги, и на выставки отдает неохотно. Показывает лишь близким людям — не публике. Как подлинному артисту, ей жаль расставаться с предметами, в которые вложено столько вдохновенного и кропотливого труда.
Глава двадцать третья
НА МОГУЧЕМ ТРУБЧЕВСКОМ ЯЗЫКЕ
Мы вновь заговорили о Данииле Леонидовиче, о его странствиях по брянским лесам, ночевках у костра, а чаще без костра, — потому что огонь и потрескивавшие в костре сухие ветки мешали вслушиваться в тишину, созерцать, любоваться ночной природой. Заговорили — и тут в разговоре стал обозначаться некий уклон, некий забавный крен. Собственно, и в выражении «апостольская походка» проскользнула добродушная язвительность, — проскользнула и скрылась, но теперь обнаружилась вновь: Анатолий
Протасьевич подтрунивает, подшучивает над чудаковатостью Даниила Леонидовича. И тут у него в запасе немало всяких быличек, побасенок, лукавых баек. Ну вот, к примеру: однажды в лесу Даниил Леонидович, привыкший ночевать без костра, варил на свече яйцо, держал его, и так и этак перехватывая, пока оно нагревалось, и обжег себе пальцы. Привыкший ходить босиком, все‑таки поранил однажды пятку и долго хромал, вызывая сочувствующие вздохи окружающих. Бедовая головушка! Как‑то раз хозяйка дома попросила купить на рынке крупы. Возвращается радостный: «Марфа Федоровна, я гречки купил!» Глянула и ахнула: да это ж конопля!..
Так, что называется, травит Анатолий Протасьевич свои лукавые байки, причем уклон в его рассказах совпадает с осторожным подталкиванием в мою сторону заветной тетрадки: прочти, мол, прочти…Не пожалеешь! Еще попросишь!
Я понял, уразумел по этим внушениям, что Анатолий Протасьевич пишет стихи. И более того, по его мнению, они ничуть не уступают стихам Даниила Андреева. Ему даже кажется несколько зазорным, что приехали из Москвы… расспрашивают о Данииле Леонидовиче… допытываются, каким он был, как выглядел, чем занимался, а к стихам самого рассказчика не проявляют ни малейшего интереса. Что за оказия?! Что за незадача!
Вот он и подталкивает, незаметно клоня к тому, что у Даниила Андреева поэзия сложная, умственная, философическая и не слишком вразумительная, у него же простая и доступная… Вот стихи, а все понятно! Да и вообще, зачем нужны шедевры! Шедевры вредны уже хотя бы тем, что своим недосягаемым совершенством губят в каждом из нас художника:
вместо того, чтобы развивать собственные творческие задатки, мы раболепно поклоняемся гениальности избранных. Иными словами, пусть не будет гениев, но будет больше скромных талантов. Пусть не будет искусства профессионального, но будет искусство самодеятельное, народное, способное украсить жизнь, а не обогатить музеи.
Лишь только Анатолий Протасьевич это произнес, мне стало ясно, что в нем проснулся идеолог, — идеолог лубка, народного примитива. Этот человек действительно украшал свою жизнь тем, что играл на скрипке, писал картины, сочинял стихи и рассказы. Я с готовностью признал его право на это и безошибочно угадал в нем человека, который мог быть доволен собственной жизнью так же, как срубивший добротную избу плотник гордится выточенными балясинами крыльца, гривастым коньком крыши и затейливыми резными наличниками. Но я сделал одну непростительную ошибку: надменный ценитель шедевров, я оттолкнул тетрадочку. Подталкивал, подталкивал Анатолий Протасьевич, а я — оттолкнул. Ему так и не удалось почитать мне свои стихи: я вежливо уклонился, перевел разговор, сделал вид, что не догадываюсь о его тайном желании.
Не удалось, а как хотелось!
Но у каждого свой уклон, и я оправдывал себя тем, что неукоснительно следовал логике самого автора, который, по его же признанию, пишет для себя и тем самым избавляет других от обязанности быть слушателем и читателем. Да и сказалась литераторская мнительность, боязнь, идиосинкразия, вызываемая самим видом таких тетрадок с клеенчатыми обложками и линованными страничками, на которых морозы губят розы, любовь волнует кровь, а ботинки изощренно рифмуются с полуботинками. Короче говоря, оттолкнул, о чем горько пожалел уже в автобусе (раскаялся, но было поздно) по дороге в Брянск, когда достал листок с рассказом Анатолия Протасьевича: все‑таки вручил мне на прощание.
Рассказ — на особом, редкостном, самородном трубчевском языке, смеси украинского, белорусского, русского и старославянского. На нем пишет лишь один писатель во всем мире — Анатолий Протасьевич Левенок. И пишет, и — отчасти — говорит, называя жилище лесника хаткой, а не домиком и не избушкой. И рассказы у него такие же особые, редкостные, этнографические — прежде чем познакомить читателя с одним из них, приведу отрывок из трубчевско- русского словаря, составленного автором:
тубаретка — табуретка; скатерсть — скатерть; веренина — кушанье из муки;
косячок (косинчик) — шкаф треугольной формы в углу комнаты;
прискринок — полочка;
ни синь пороху — полное отсутствие;
наскопать — нащепать;
скабка — заноза;
скабезиться — разнервничаться;
качулка — скалка;
жвянькать — шамкать;
клюкарза — старуха с клюкой;
склима — занудность, зануда;
клямка — щеколда.
Запомнили? А теперь читаем рассказ Анатолия Левенка «Под шохву»:
«Бабка встала затемно. Убрала тубаретку, поправила скатерсть, сполоснула дясны. Хотела перекусить веренины, но ни в косячке, ни в прискриничках — ни синь пороха!
Свечки не нашла и хотела наскопать лучинки, но заскабила скабку. Полезла под загнёт хоть кулаги хлебнуть, но чуть чепелой не опрокинула кашник со ско- лотвиной.
— Ты што скабезишься? — проворчал дед.
— Цыц; а то качулкой!
— Не жвянькай, клюкарза.
— Ну, склима!..
Бабка, бука с бельем, вышла из хаты. Хлопнула клямкой, постояла на угле и потащила гусятницу пу- канки под шохву…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: