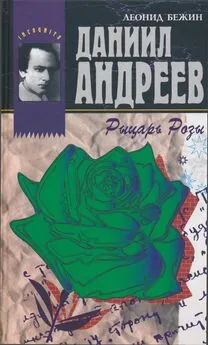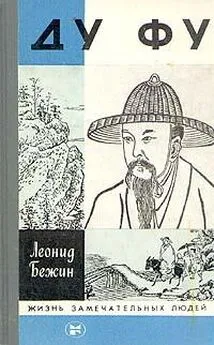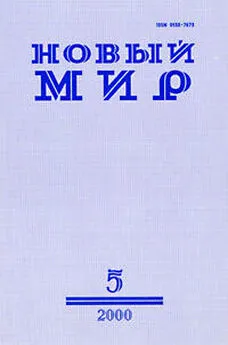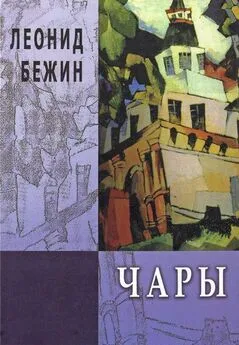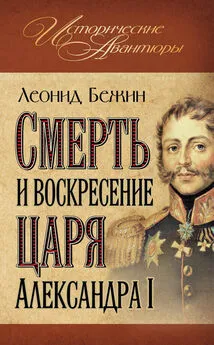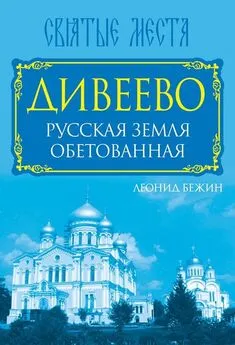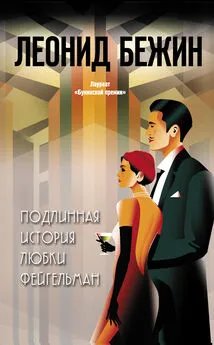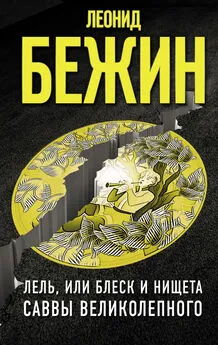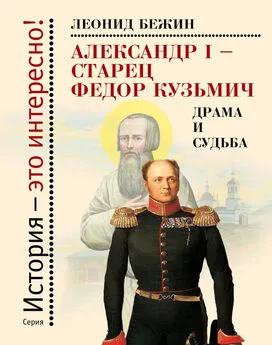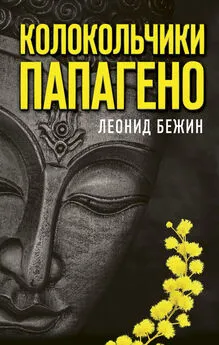Леонид Бежин - Даниил Андреев - Рыцарь Розы
- Название:Даниил Андреев - Рыцарь Розы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Энигма
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-94698-032-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Бежин - Даниил Андреев - Рыцарь Розы краткое содержание
Эта книга благодаря собранным по крупицам свидетельствам современников и документам позволяет восполнить пробелы в сведениях о жизни и творчестве великого русского мистика Даниила Андреева и воскресить его во многом автобиографичный роман «Странники ночи».
Увлекательное исследование Леонида Бежина адресовано самому широкому кругу почитателей творчества Даниила Андреева.
Даниил Андреев - Рыцарь Розы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Признаться, плохо я знаю трубчевский язык — в словарике не нашел, а без словарика так и не понял, с чем была у бабки гусятница и куда она ее потащила, но что поделаешь — такая уж я склима!.. Хотя выразительность, живость, некую непосредственную народность рассказа я почувствовал, и особенно понравился диалог — как дед с бабкой ругаются. Не те ли самые, которых я видел на картине Анатолия Прота- сьевича: старик и старуха, она в платке, он в красной рубахе, сидят за самоваром и чай из блюдечка пьют?! Перед моим уходом Анатолий Протасьевич показал- таки мне свою живопись — маленькие работы в лубочном, примитивном, самодеятельном стиле, они привели меня в полный восторг, столько в них было остроумия, потехи, лукавства, наблюдательности и той непередаваемой пластики, на которую способен лишь художник наивный, непосредственный, избяной, домашний.
Иными словами, срезал меня Анатолий Протасьевич, сразил наповал, и я научился ценить не только общепризнанные шедевры, но и образцы скромного домашнего творчества, живописания и сочинительства. Жаль вот только тетрадка… не раскрыл я ее, не заглянул… и на скрипке мне Анатолий Протасьевич не поиграл, но те несколько часов, которые я провел в его доме, украсили и мою жизнь так же, как украшали некогда жизнь Даниила Леонидовича Андреева.
Теперь мне стало ясно: Даниила Леонидовича влекла сюда атмосфера интеллигентной провинциальной жизни, то неуловимое, тонкое, артистичное, о чем мечтал Чехов и что овеивало семью Левенков. Семью, где не жили искусством, не поклонялись, не приносили ему жертв, а трудились, растили детей, но при этом — жили искусством. Вот удивительно: не жили, не поклонялись и — жили! Я еще раз убедился в этом, побывав у сестры Анатолия Протасьевича Лидии Протасьевны, тихой, задумчивой и… как бы отрешенной, забывающейся, — мы долго разговаривали, и она уносилась мыслями в прошлое. Да, в далекое прошлое, в те времена, когда первыми в городе считались купцы Курындины, Десна была судоходна до Брянска и с началом навигации детвора убегала с уроков смотреть на пароходы — с колесами, высокими трубами и сиплым гудком.
Все это было здесь, в городе. И здесь, в доме Лидии Протасьевны, было то, что затем также овеяло стихи Даниила Андреева и проникновенные, лирические страницы «Розы Мира». Лидия Протасьевна показала мне хранившийся в семье листок со стихотворением Даниила Леонидовича, посвященным ее отцу Протасу Пантелеевичу, и я выписал из него несколько строк:
Он был так тих,
безвестный, седенький,
В бесцветной куртке
рыболова,
Так мудро прост,
что это слово
Пребудет в сердце
навсегда…
И далее:
Я все любил:
и скрипки нежные,
Что мастерил он
в час досуга;
И ветви гибкие,
упруго
Нас трогавшие
на ходу…
Мог бы выписать и больше, но остановило то, что и эти стихи как бы наивные, домашние, не для печати: сочинил и преподнес в подарок. Да и сочинил‑то словно не до конца, не до конца обратил в строки и перевел на бумагу, а оставил такими, какими они до сих пор живут в стенах дома, — вот скрипки Протаса Пантелеевича… вот диванчик, на котором сидели, а за окном упругие, гибкие ветви, ульи, садовые гряды… Здесь встречались, вели неторопливые беседы под грушей на лавочке, пили чай с медом, мечтали, фантазировали, философствовали, и все это навсегда пребудет в сердце…
Так я думал тогда, но затем перечитал это стихотворение в книге, уже целиком. И мне открылось, что сближало Даниила Леонидовича и Протаса Пантелеевича не просто соседство и разговоры велись не только житейские, под настойку на доннике, и даже не только литературные («О Лермонтове, сагах, ведах»), но и теософские, с уклоном в солнечную мистику Древнего Египта, культ «неумирающего Ра»:
Был часом нашей встречи истинной
Тот миг на перевозе дальнем,
Когда пожаром беспечальным
Зажглась закатная Десна,
А он ответил мне, что мистикой
Мы правду внутреннюю чуем,
Молитвой Солнцу дух врачуем
И пробуждаемся от сна.
Вот оно как! Значит, «встреча истинная» произошла не сразу, внутреннее, потаенное долгое время не высказывалось, пока там, на речном перевозе, не прорвалось наружу. Конечно, Протас Пантелеевич — это не Коваленский, столичный барин, знаток экстазов и восхищений, но он тоже мистик, посвященный в древние культы, и «бесцветная куртка рыболова» — символ сознательно избранной безвестности, уединенности, провинциального отшельничества, спасительного в те страшные годы…
Вечером, перед самым отъездом, я вновь пришел к обрыву — попрощаться с надмирным местом. На Десну опускались сумерки, закатное солнце поблескивало на остриях выбитых стекол в окнах собора, жарко краснела рябина — настоящая, тонкая, — а пьяный хор в беседке вытягивал «тонкую», ненастоящую. И гипсовая фигура женщины с обломком поднятой руки напоминала о расцвете парковой скульптуры. Ступени лестницы уводили вниз, к роднику Нила Сорского, и почему‑то в ушах звучало: «Десна была судоходной до Брянска». Как это странно, исполнено одинаково невыразимой тоски и отрады: закатные сумерки, пьяный хор, обломок гипсовой руки с торчащей из нее ржавой проволокой, солнце на остриях стекол и ступени к роднику… И Десна была судоходной… И, если посмотреть вдаль, кажется, что сам демиург таинственно воздевает воскрылия над своей кроткой, святой, нелепой и безобразной страной…
Часть вторая
Повесть о сожженном романе
Глава двадцать четвертая
БРАТЬЯ ГОРБОВЫ — САША И ОЛЕГ
Трубчевск, брянские леса, Десна и Нерусса во многом связаны с ранним, довоенным периодом творчества Даниила Андреева, и прежде всего с его лирическими циклами и романом «Странники ночи». Может быть, и на неоконченную поэму «Песнь о Монсальвате» они оказали косвенное влияние, проступая в очертаниях романтических декораций, диких круч, колдовских провалов, дремучих сказочных лесов, по которым странствует гордый король, королева и ее свита в поисках Чаши Грааля. Во всяком случае, чисто реалистические описания природы в ранней лирике Даниила Андреева хранят отголоски романтической образности, а поэма «Немереча» — это тоже поиск выхода из непроходимых топей жизни, из мрака — к свету, от сна — в явь, от смерти — к бытию.
Поэтому косвенное влияние — да, может быть, но с романом Трубчевск связан непосредственно, вплетен в основной сюжетный узел. Во второй главе археолог Саша Горбов, обветренный, загорелый, русоволосый, с подкупающе доверчивым взглядом серых глаз на открытом лице, один из трех братьев Горбовых, главных героев романа, ночью возвращается в Москву из Трубчевска. Там он несколько месяцев провел в экспедиции, оторванный, отрешенный от московской жизни, от дома в Чистом переулке, от своих родных, ото всего, что творится в стране. Влюбленный в природу, всецело погруженный в ее светлый и гармоничный мир, мир брянских лесов, он словно бы и забыл, что «на дворе» — тридцать седьмой год, страшное время показательных процессов, арестов, пыток и казней. И вот — катастрофа, крушение поездов, опи-
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: