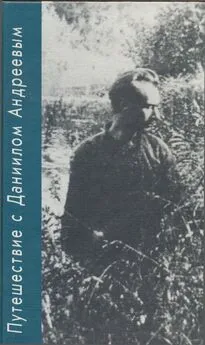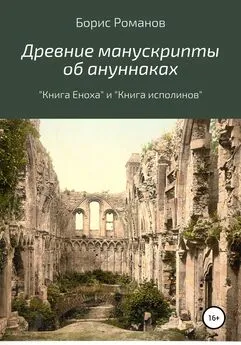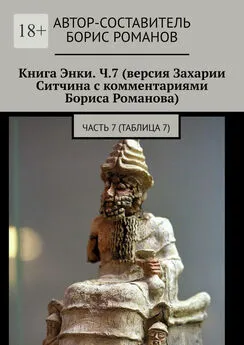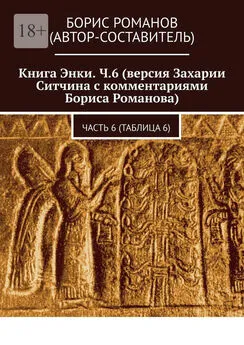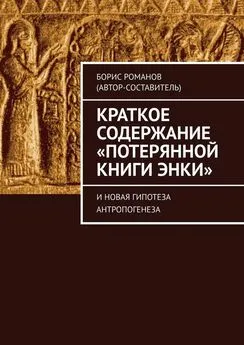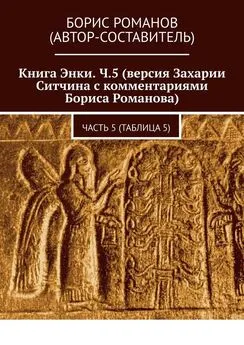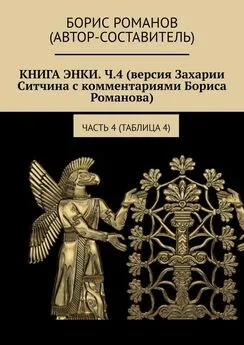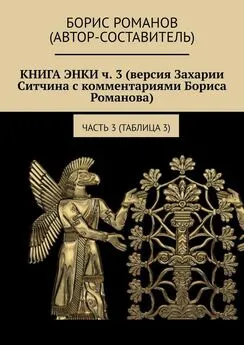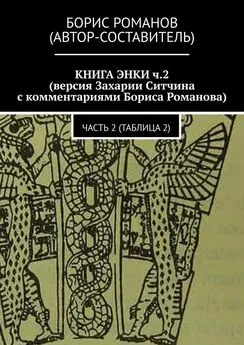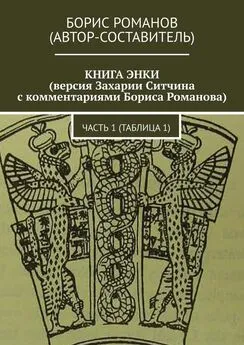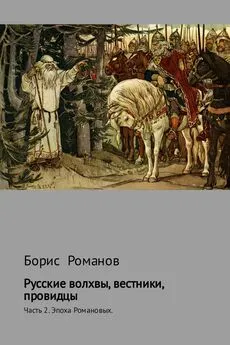Борис Романов - Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике
- Название:Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Плеяда
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-93006-058-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Романов - Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике краткое содержание
Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
7 февраля 1954 года. Пушкинский «Пророк» здесь отнюдь не поэтический образ, а обозначение мучительно переживаемых состояний, для которых еще не найдено выверенных слов. Духовное прозрение, по которому томился Андреев в тюремной камере, было для него той мистической реальностью, с которой он уже не раз соприкасался. В «Розе Мира» он прямо указывает и дату, и место каждого такого события, сообщая, что все его «книги, написанные или пишущиеся в чисто поэтическом плане, зиждутся на личном опыте метаисторического познания» [94] Андреев Д. Собр. соч. Т. 2. С. 62.
.
В сущности, все поэтическое учение Даниила Андреева о вестничестве описывает главным образом его собственный мистический опыт, потому что, строго говоря, ни один из тех русских поэтов, в которых он находит черты вестничества, этому учению вполне не отвечает. Правда, и сам Андреев не претендует на полноту вестничества, говоря лишь об «отзвуке правды», которую ему удает ся передать. А кое — где у него прорываются и трагические сомнения.
Отношение к пережитому и описанному Пушкиным в «Пророке» Владимира Соловьева, как, впрочем, и самого Андреева, назвавшего пушкинское прозрение «интуицией», целомудренно сдержанно. Зато совершенно внятно о мистической подлинности «Пророка» говорит Гершензон, обосновывая, правда, свои убедительные догадки с точки зрения психологической, а не религиозной: «…Пушкин никогда не обманывал. Очевидно, в жизни Пушкина был такой опыт внезапного преображения; да иначе откуда он мог узнать последовательный ход и подробности события, столь редкого, столь необычайного? В его рассказе нет ни одного случайного слова, но каждое строго — деловито, конкретно и точно, как в клиническом протоколе. Эти удивительные строки надо читать с суеверным вниманием, чтобы не упустить ни одного признака, потому что то же может случиться с каждым из нас, пусть частично, и тогда важно проверить свой опыт по чужому. Показание Пушкина совершенно лично, и вместе вневременно и универсально; он как бы вырезал на медной доске запись о чуде, которое он сам пережил…» [95] Гершензон М. Мудрость Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 219.
«Таких строк нельзя сочинить…» [96] Булгаков С. Жребий Пушкина // Там же. С. 283.
— говорил позднее о «Пророке» и о. Сергий Булгаков.
Писавший о «Пророке» Вяч. Иванов замечал, что поэт, превратившийся в пророка, уже не поэт, а проповедник [97] См.: Иванов В. Два маяка // Там же. С. 255.
. И это верно. Но для Даниила Андреева пушкинский пророк и не проповедник, и не идеальный поэт, как у Соловьева, и даже не поэт — вестник, а нечто неизмеримо большее. Это тот идеал, который вслед за Пушкиным, впервые о нем сказавшим, стоял перед всеми носителями вестничества в русской литературе. Понимание этого идеала для Андреева и связано с пушкинским «Пророком». Он говорит: «Общепринятое толкование этого стихотворения сводится к тому, что здесь, будто бы, изображен идеальный образ поэта вообще; но такая интерпретация основана на ошибочном смещении понятий вестника, пророка и художественного гения. Не о гении, вообще не о собственнике высшего дара художественной одаренности, даже не о носителе дара вестничества гремит этот духовидческий стих, но именно об идеальном образе пророка. Об идеальном образе того, у кого раскрыты, с помощью Провиденциальных сил, высшие способности духовного восприятия, чье зрение и слух проницают сквозь весь Шаданакар [98] Шаданакар у Даниила Андреева — совокупность инопространственных и иновременных слоев нашей планеты.
сверху донизу и кто возвещает о виденном и узнанном не только произведениями искусства, но и всею своею жизнью, превращающейся в житие. Это тот идеальный образ, который маячил как неотразимо влекущая цель перед изнемогавшим от созерцания химер Гоголем, перед повергавшимся в слезах на землю и воздевавшим руки к горящему над Оптиной Пустынью Млечному Пути Достоевским, перед тосковавшим о всенародных знойных дорогах странничества и проповедничества Толстым, перед сходившим по лестнице мистических подмен и слишком поздно понявшим это Александром Блоком» [99] Андреев Д. Собр. соч. Т. 2. С. 380.
.
Но пророк и поэт — вестник у Даниила Андреева понятия хоть и несовпадающие, но близкие. «Вестник действует только через искусство; пророк может осуществлять свою миссию и другими путями…» [100] Там же. С. 369.
— говорит он. Для него суть была не только в подлинности переживания, описанного в «Пророке», — она для него была несомненна, подтверждая его собственный опыт, — но главным образом в том, что пушкинский пророк был провозвестник высшего и небывалого дара — знания иных реальностей. Поэтому Пушкин для Андреева не только художественный гений, поэт — вестник, но и провозвестник идеала, к которому мучительно стремятся все носители дара вестничества русской литературы. В этом ее высший смысл и пафос. Его учение о вестничестве, конечно, восходит к тому религиозному пониманию миссии и природы поээта, которое прямо выражено и в духовных одах Державина, и в «Пророке» Пушкина, и в мистических прозрениях Лермонтова.
«История вестничества в русской литературе — это цепь трагедий, цепь недовершенных миссий» [101] Там же. С. 410.
, — говорит о вестниках Даниил Андреев, имея в виду и трагическую смерть Пушкина, ко торая для него не только великое несчастье для России, но и мистическое событие метаисторического значения. «Он благоговел перед Пушкиным», у Пушкина он «просит благословения и называет его учителем», он любил Пушкина «безумно» — так говорят мемуаристы об отношении Андреева к поэту, замечая между тем что Лермонтов и Блок были ему ближе. Да, это так, об этом говорит и он сам. Но эта близость к иным поэтам никак не отрицала того огромного места, которое занимал Пушкин в его духовном мире и в его осмыслении путей русской истории и культуры.
В черновиках поэта сохранился набросок шутливого стихотворения, в котором Андреев спорит с Пушкиным, не принимая его формулы «равнодушная природа» («Брожу ли я вдоль улиц шумных…»):
Ходил ли Пушкин без перчаток?
И в золотой пыли дорог
Хоть раз мелькнул ли отпечаток
Его разутых, шустрых ног?
<���…>Но если б воздух, землю, воду
Он осязал, как в наши дни —
Про равнодушный лик природы
Не заикнулся б он. Ни — ни.
Не удержался Андреев и от того, чтобы не высказать эту же мысль в «Розе Мира» [102] Андреев Д. Собр. соч. Т. 2. С. 525.
. Создавший целое учение о стихиалях — богосотворенных монадах, олицетворяющих одухотворенную жизнь природы, и призывавший к «босикомохож-
дению», чтобы ощущать ее светлые излучения, он принципиально не принимает пушкинской метафоры. Она категорически чужда его мировидению.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: