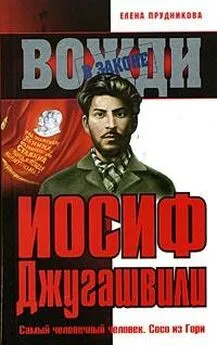Елена Прудникова - Мифология «голодомора»
- Название:Мифология «голодомора»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-373-05043-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Прудникова - Мифология «голодомора» краткое содержание
Антироссийская пропаганда 90-х годов держится, по сути, на четырех столпах. Это миф о репрессиях, миф о том, что Великая Отечественная воина вовсе не была Отечественной, миф о Катыни и миф о «голодоморе». Если первые три за последние десять лет уже изучены и частично или полностью опровергнуты, то «голодомор», по сути, никем и не изучался. История, будучи городской образованной дамой, мало интересуется крестьянским вопросом. Между тем, не осмыслив сути советской аграрной реформы и цены, которую наша страна заплатила за то, чтобы вырваться из феодализма, вообще невозможно понять то страшное и великое время.
По сути, «голодомор» — окончательная цена дворянских гнезд, барышень в белых платьях, выездов и бриллиантов, Петергофа и Третьяковской галереи, побед русского оружия и кутежей русских миллионеров. Это плата по счетам той России, которую мы потеряли, хотя платить пришлось уже новой России…
Мифология «голодомора» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А если и действительно
Свой долг мы ложно поняли
И наше назначение
Не в том, чтоб имя древнее,
Достоинство дворянское
Поддерживать охотою,
Пирами, всякой роскошью
И жить чужим трудом,
Так надо было ранее
Сказать… Чему учился я?
Что видел я вокруг?..
Коптил я небо Божие,
Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную
И думал век так жить…
И вдруг… Владыко праведный!..
Помещик зарыдал…
И было отчего рыдать: хозяйствовать на земле без рабов, даже получив выкуп, помещики и не хотели, и не могли. Вырвавшиеся на волю крестьяне не желали обрабатывать барские поля или требовали непомерных денег. В результате помещики договаривались о «натуральном обмене»: крестьяне обрабатывали землю исполу, за половину урожая, и так же косили луга. Насколько это повышало культуру производства, предоставляем судить читателю.
В 1861 году земля была поделена примерно поровну. В Европейской России 76 млн десятин достались помещикам, а 73 млн десятин — крестьянам [102] Бушков А. Красный монарх. М., 2004. С. 62.
. К 1905 году в руках помещиков Европейской России находилось 50 млн десятин — то есть треть земли они уже потеряли. Из 105 тысяч помещичьих хозяйств 22,5 тыс. относились к мелким — меньше 10 десятин, и 26,5 тыс. имели от 10 до 50 десятин земли. Крупных — от 500 десятин — хозяйств насчитывалось 18 тысяч. Правда, им принадлежали 80 % помещичьей земли, так что в этом смысле реформа своей цели достигла [103] Россия. 1013 год. Статистико-документальный справочник. РАН, Институт российской истории. СПб., 1995 // http://lost-empire.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=9
. Но, с другой стороны, дворяне активнейшим образом сдавали землю в аренду крестьянам, которые растаскивали арендованные клочки по своим микроскопическим хозяйствишкам — а вот об этом, как нетрудно догадаться, данных никаких нет, поскольку сельская аренда сплошь и рядом на бумаге не оформлялась.
Нет, существовали, конечно, и поместья, и латифундии, являвшиеся относительно культурными хозяйствами — с косилками-молотилками, а порой и с агрономом, — но мало их было. По состоянию на 1905 год, крупные помещичьи хозяйства имели 41 млн десятин земли, а крестьянские — 161 млн: получается не более 20 %, если судить по земле, а в реальности, с учетом аренды, и того меньше.
И, что еще хуже, ставка на помещика хоть и обогатила Россию самозваным статусом «кормилицы Европы», но главной своей задачи не выполнила. Поскольку главная проблема англо-саксонского варианта реформ — когда создают условия для капиталистической конкуренции и пускают процесс на самотек — не в том, как поставить крупное капиталистическое хозяйство, а в том, куда девать аутсайдеров. Без малого полвека спустя, в 1906 году, группа московских миллионеров, выступивших в поддержку столыпинской реформы, заявила:
« Дифференциации мы нисколько не боимся… Из 100 полуголодных будет 20 хороших хозяев, а 80 батраков. Мы сентиментальностью не страдаем. Наши идеалы — англосаксонские. Помогать в первую очередь нужно сильным людям. А слабеньких да нытиков мы жалеть не умеем ».
Да, конечно — но тут на передний план выступает проблема количества, которое самым непосредственным образом влияет на качество, вплоть до полного распыления. Если «слабеньких да нытиков», скажем, процентов пять населения, и они скитаются по дорогам — то можно поступить, как в Англии: принять закон о бродяжничестве и отправлять разорившихся крестьян либо в петлю, либо в колонии, если они не желают тихо умереть с голоду. Но в России такой сценарий не прокатывал — аутсайдеров было не пять процентов, а как бы не все пятьдесят, и они не бродили по дорогам разрозненно, как некие «человеческие молекулы», а сидели по деревням, объединившись в общины. Сельское общество же для земледелия губительно, но зато в социальном плане — страшная сила…
Двор среднестатистический
Итак, нескольким десяткам тысяч помещичьих хозяйств противостояло десятимиллионное море крестьянских дворов, объединявшее 55 миллионов человек. Что собой представляла эта молекула аграрного сектора в первые двадцать лет после реформы?
Согласно переписи населения 1857–1859 годов, население России составляло 62,5 млн человек. Из них в крепостной зависимости у помещиков находилось 23,1 млн. 6,5 % этого числа, или 1,5 млн, составляли дворовые, которых освобождали вообще без средств к существованию. Остальные получали наделы земли, как правило, остававшиеся в общинной собственности. Несколько позже власти освободили и государственных крестьян — не упустив случая взять выкуп и с них.
Насколько велик надел, приходившийся на один крестьянский двор?
Если вспомнить, что к 1882 году было выкуплено крестьянами в собственность 47 735 душевых наделов (178 тыс. десятин), а к 1887 году — 101 413 наделов (394 504 десятины), то, совершив простые арифметические действия, мы получим, что размер одного душевого надела — 3,7–3,8 десятины. Правда, есть один момент: не только в разных губерниях, но и в разных поместьях наделы бывали разные — где-то четыре, а где-то и одна десятина. Ясно, что выкупали землю самые богатые крестьяне, т. е. те, у которых и при крепостном праве ее было много.
Далее. По данным тайного советника В. Ф. де Ливрона, издавшего в 1874 году эпохальный труд «Статистическое обозрение Российской империи» [104] Ливрон В. Статистическое обозрение Российской империи. СПб., 1874 // http://istmat.info/node/18488
, в 1874 году в империи проживало 81 745 тыс. человек. Из них в Европейской России (без Польши и Финляндии) — 63 658 тысяч. 63 840 тысяч (78 %) жителей России относились к так называемым сельским сословиям, т. е. крестьянам. В Европейской России их был 81 %, или около 52 млн человек. Правда, крестьяне могли проживать и в городах, а дворяне, представители духовенства, военные — в деревнях. Сельское население Европейской части России также составляло 57 млн человек. В конце концов, нам важны не точные цифры, а оценка, так что примем за число крестьян Европейской России, для удобства подсчета, 54 млн человек и на этом успокоимся.
Из того же де Ливрона мы узнаем, что в Европейской России было 88,9 млн десятин пахотной земли и 52 млн десятин сенокосов. При самом грубом подсчете, допустив, что помещики еще свое хозяйство не распродали и им принадлежит половина всех земель, мы получим, что на одного крестьянина мужского пола приходится 1,6 дес. пахоты и чуть менее десятины лугов. В среднем.
Теперь посмотрим, как вел хозяйство и какие получал урожаи такой вот среднестатистический двор.
Как пишет де Ливрон, «способы пользования землей, встречающиеся в России, относятся к следующим четырем главным видам хозяйства: 1) подсечное, или огневое хозяйство; 2) переложная система; 3) система трехпольная и 4) система плодосменная».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: