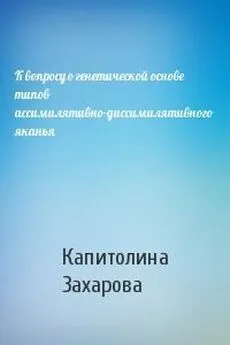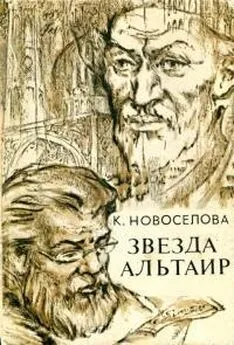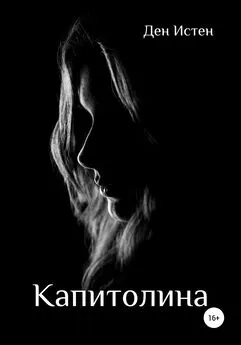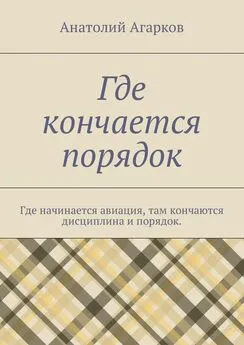Капитолина Кокшенева - Порядок в культуре
- Название:Порядок в культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Капитолина Кокшенева - Порядок в культуре краткое содержание
Капитолина Кокшенева — не просто критик, но исследователь, и не просто исследователь, но поисковик. В основе ее творческого метода — отнюдь не бесстрастный анализ происходящего в искусстве, но заинтересованный поиск того, что поможет человеку обрести животворную связь с историческими судьбами своей страны. Поиск сил, что в конечном итоге свалят с русской культуры саркофаг, старательно натягиваемый на неё ревнителями трупного модерна и «универсальных ценностей». Новая книга Капитолины Кокшеневой исследует современную прозу, кино, театр, живопись и дает ответы на самые жгучие вопросы нынешнего культурного бытия.
Порядок в культуре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О каких «шансах» я говорю?
Во-первых, мы видим некоторое возвращение на классические устойчивые позиции: над жизнью у Прилепина и Шаргунова все-таки есть Судия, а значит — не все позволено. Для моего поколения в этой позиции нет никакой смысловой и жизненной новизны — но Прилепин и Шаргунов высказали ее после чудовищной деструктивности «ликвидаторской литературы» постмодернистов, потому и прозвучала она оздоровляюще.
Во-вторых, у Прилепина нет радикализации повседневности : обыденное, частно-интимное, напротив, для него альфа и омега бытия; привычный реестр счастья — это и есть внутреннее ядро его прозы. Обыденность совсем не деспотична — она всегда источник радости, потому что в ней была существенная простота — был дедов дом, была бабушкой поджаренная картошка, был «весь этот день и его запахи краски, неестественно яркие цвета ее, обед на скорую руку — зеленый лук, редиска, первые помидорки, — а потом рулоны обоев, дурманящий клей», а «под утро пришла неожиданная, с дальним пением птиц, тишина — прозрачная и нежная, как на кладбище» («Грех»). Была яркая и жаркая ранняя любовь, в которой все было скромно и бестелесно, но которая научила понимать собственное тело, угадывать грех его желаний. «…Всякий мой грех… — сонно думал Захарка, — …всякий мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, — оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком…». Чистая и ясная проза.
Вообще строительство амбициозной литературной траектории Захару Прилепину удалось: патриоты до сих пор полагают деревенское происхождение (а наш герой родился в нижегородской деревне) гарантией настоящести, националисты-интеллектуалы ценят брутальность, действенную мужественность его русского героя; оставшиеся либералы сильно заматерели, но не настолько, чтобы не поддерживать оппозиционность в других. Найти у Прилепина высказывания прямо противоположные, и по этой причине могущие устраивать всех, нетрудно. Но не в них дело. Это правда, что его деревенские корни дали ему много того, чего нет ни у Шаргунова, ни у Коваленко (городских). З емляной, животный (живот-жизнь) привкус его прозы очевиден и силен: «Все это живое, пресыщенное жизнью в самом настоящем, первобытном ее виде и вовсе лишенное души, — все это с яркими, цветными, ароматными, внутренностями, с раскрытыми настежь ногами, с бессмысленно задранной вверх головой и чистым запахом свежей крови не давало, мешало находиться на месте, влекло, развлекало, клокотало внутри. …Та самая, тягостная ломота, словно от ледовой воды, мучавшая его, нежданно сменилась ощущением сладостного, предчувствующего жара. Жарко было в руках, в сердце, в почках, в легких: Захарка ясно видел свои органы, и выглядели они точно теми же, что дымились пред его глазами минуту назад. И от осознания собственной теплой, влажной животности Захарка особенно страстно и совсем не болезненно чувствовал, как сжимается его сердце, настоящее мясное сердце, толкающее кровь к рукам, к горячим ладоням, и в голову, ошпаривая мозг, и вниз, к животу, где все было… гордо от осознания бесконечной юности» (все это роскошное физиологическое письмо связано с наблюдениями героя над зарезанной дедом и освежеванной свиньей). Этим крепким инстинктом жизни , принятием ее всякой-разной, всякой-любой, кажется, и особенно привлекательно творчество Захара Прилепина для современников.
Прилепин, когда основные литературные игроки либо блефуют (изображают, что они писатели), либо «работают» над тем, чтобы литература из постмодернистской превратилась в постчеловеческую (см. Ю.Буйда, М.Елизаров и другие — имя им легион), — Прилепин в этой ситуации предложил иное отношение к миру: он утверждает состоятельность тварного мира , он защищает право человека на простейшее и фундаментальное в бытие. Цивилизации смерти, — «технологичному и сознательному отвержению жизни» (а именно такова она сейчас), — он противопоставил идею жизни как полыхающей, роскошной силы. Жизни юной, огненной, злой и активной, с мужественной и безжалостной волей, где беда и любовь, где ненависть и чистый запах младенца, где кровь, боль и неистовая тоска, где хлеб и водка, где родина и любимая женщина абсолютно равны друг другу: «Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Родина одна». Аксиомы. Они — генетический код прозы Захара Прилепина, настолько же не желающего никакого истощения внутренних, скрытых задач этого «кода», насколько и «не заметившего», что «реальный мир» вновь вошел в моду. А значит — главные инстинкты, «романтическое мужество» и молодой «бунт проклятых», продленные без мысли во времени и пространстве (от глубины живота — ввысь), чреваты разложением и бесплодием. А значит — они вновь должны быть преобразованы, напитаны, защищены сознательной силой традиции, к огромному ресурсу которой Захар Прилепин только прикоснулся. Проза Захара Прилепина — энергетическая. Только в отличие от тупых напитков-энергетиков, в ней доминирует настоящая сила жизни, крепко заточенная им в слово.
А меч? Меч нужно держать наготове. Но «добра с кулаками» сегодня категорически мало — добро тоже должно быть и умным, и отчаянным, и героическим, и сильным…
Сергей Шаргунов тоже был в Чечне. Тут другой, менее отчаянный и серьезный опыт, чем у Прилепина, но все же риск был. И «биография» Сергея не менее насыщена «обстоятельствами», заставляющим критиков и сплетников дегустировать и смаковать некоторые из них, потеряв всякое чувство меры, особенно, когда речь идет об отце-священнике.
О Сергее Шаргунове я уже говорила слова горькие, опасаясь, что политик съест в нем писателя, которым в ту пору он только начинал быть. Впрочем, в его политическом загуле есть что-то очень личное: благополучный, блестящий молодой человек, желая «познать жизнь-паскуду» — ринулся под ее «подол», захотел изнанки и даже «помойки» («ананасы и рябчиков» поменять на гнилую корку). Такое бывает именно с благополучными. А дальше случился шаргуновский «прорыв» в Думу, закончившийся вполне закономерным крахом. А теперь вот и книжка вышла — «Птичий грипп». Название, что и говорить, коммерческое, преувеличенное, но заразительное и узнаваемое. И даже какой-то прохановский «приемчик» в нем ощущается. Но дело не в этом. Книжка, как мне видится, своеобразный итог и «прощание с молодостью», где была борьба, смена как перчаток партийных интересов, странная, все время ускользающая главная мысль: зачем все это?
И все же кем был все эти бурные годы Сергей Шаргунов в литературе и медийном пространстве? Я долго искала это главное слово. И я его нашла. Конечно же, я буду опираться не на «голую биографию», а на последнюю книгу «Птичий грипп», где, как это часто у них (тридцатилетних) бывает, автор и герой специально соотносятся друг с другом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: