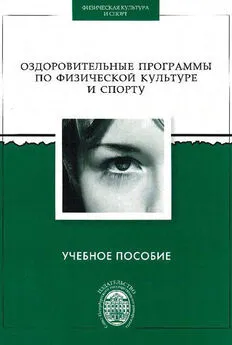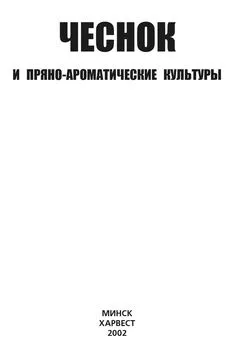Коллектив авторов - Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов
- Название:Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-15
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов краткое содержание
Книга «Куда ведет кризис культуры?» объединяет материалы междисциплинарных семинаров, проходивших в фонде «Либеральная миссия» в 2010–2011 годах. На вопрос, вынесенный в заглавие книги, ищут ответ, полемизируя друг с другом, Михаил Афанасьев, Алексей Давыдов, Денис Драгунский, Алексей Кара-Мурза, Игорь Клямкин, Вадим Межуев, Эмиль Паин, Андрей Пелипенко, Наталья Тихонова, Игорь Яковенко и Евгений Ясин.
Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вадим Межуев: Запад никогда не был бы Западом, если бы хвалил себя так, как вы его хвалите…
Эмиль Паин: Я спорю с конкретный фразой о бездуховности западного общества. Она написана черным по белому, и если есть другие ее трактовки, от моей отличающиеся, то я готов их выслушать. В заключение хочу заметить, что все мои замечания касаются неких боковых, вспомогательных и, на мой взгляд, не обязательных сюжетов обсуждаемого доклада. Против содержания его основной части, относящейся к истории русской философской мысли, у меня возражений нет.
Игорь Клямкин:
Ваше, Эмиль Абрамович, выступление тоже можно считать образцовым в формате междисциплинарной дискуссии. Вы вычленили в докладе Межуева то, что имеет отношение к вашей специализации, и очень удачно, по-моему, это проблематизировали.
Что касается бездуховности Запада, то давайте и в самом деле не забывать старую истину, согласно которой все познается в сравнении. Запад первым решал проблему окультурирования массового урбанизированного общества. Он не считает, что решил ее, в этом отношении он самокритичен, о чем свидетельствует и приведенный Вадимом Михайловичем список ученых трудов. Но одно дело — критика изнутри, и совсем другое — критика, идущая из стран, где названная мной проблема решается или хуже, чем на Западе, или она еще вообще не дала о себе знать.
Случай со славянофильской «русской идеей», выдвинутой в крестьянской России XIX в., по-моему, как раз из этого второго ряда. Что же означает в таком случае ее актуализация? Попытку найти решение проблемы или обойти ее стороной?
Слово — Алексею Платоновичу Давыдову.
Алексей Давыдов:
«Религиозная „русская идея“ — идея ветхозаветная, а не новозаветная»
Какое-то время после распада СССР мне казалось, что разговор о «русской идее» — интеллектуальном продукте славянофилов XIX в. и их последователей — утратил смысл. Потому что, думал я, вместе с Советским Союзом распалось и имперское мышление российской интеллигенции. Но потом выяснилось, что имперские ценности по-прежнему в нас. И, соответственно, «русская идея», этими ценностями подпитываемая, тоже в нас. Значит, разговор о ней все еще нужен. Об этом лишний раз свидетельствует и оригинальная актуализация «русской идеи» в докладе Вадима Межуева.
Вадима Михайловича в этой славянофильской идее привлекает то, что «абстрактному и безличному разуму с его формальными предписаниями» она противопоставляет нечто более высокое, а именно «сверхличную божественную мудрость, открывающуюся человеку в личном опыте его религиозной веры, в данном ему свыше откровении». Я, скажу сразу, категорически против таких антитез. Но важнее все же выводы, которые, по мнению докладчика, отсюда проистекают.
Он пишет: «Не в Европу надо стремиться России и не противопоставлять себя ей, а в цивилизацию, которая базируется на общих с Европой и, возможно, и для всего человечества, основаниях. Не французами, англичанами или американцами должны стать русские, а теми, кто, оставаясь самими собой, могут жить вместе со всем цивилизованным человечеством, говорить на общем и понятном для них всех языке». Что же это за язык? И на каких «общих основаниях» должна возводиться эта универсальная цивилизация?
Возвращаясь к спору между просветителями и романтиками в Европе и западниками и славянофилами в России, Вадим Михайлович спрашивает: «Разум или дух? Какое из этих начал более универсально?». И выбирает «дух», общую для России и Европы христианскую духовность. На этом культурном основании и предлагается строить будущую мировую цивилизацию. То есть строить ее, поставив во главу угла спасение души, жизнь не «по разуму», а «по совести».
Но, господа, Европа-то давно от этого спора ушла. И нам, по-моему, тоже не надо бы возвращаться к древней неснимаемой антиномии «разум — дух», возрождая предмет полемики между западниками и славянофилами на уровне фундаментальных ценностей. Потому что спор этот историей уже решен. И дилемма «спасаться или развиваться», которая, если отбросить шелуху слов, просвечивает сквозь саму постановку вопроса о «русской идее», решена тоже.
Антиномия «разум — дух», выступающая основанием в анализе смыслов божественного и человеческого, была частично снята в философии Нового времени в представлениях о божественной субстанции как сущности, единой для природы и человека. Мерой сущности стала способность человека мыслить. Возник вопрос о сущности существования, и появилось « я » рациональное как способ приближения к ответу на этот вопрос. Рациональное стало мерой духовного, потому что стало способом познания божественной субстанции. Способность к ratio выступила против хаоса мира, что соответствовало плану Творца.
Пришло понимание: чем эффективнее и, соответственно, богаче человек, тем ближе он к Богу, тем выше полнота его бытия и больше шансов на спасение. Способ анализа реальности и способ веры начали стремиться к тождеству, формируя зачатки новой культуры. Через представление о духовности ratio, пользы, деловой эффективности и прибыльности человек разумный, становясь субъектом развития, начал в какой-то мере преодолевать неснимаемость противоречия между полюсами в антиномии «разум — дух».
Второй шаг сделал экзистенциализм, отказавшийся рассматривать сущность бытия (существования) как основание мышления и воспринявший как основание само бытие. Мерой сущности стало существование. Появилось « я » экзистенциальное , и из смысла хайдеггеровского вот-бытия (Dasein) возник вопрос «кто я?». Субъектом развития становится личность, не принимающая хаос мира не только рационально, но и эмоционально/духовно, что соответствует планам Творца. Через свою цельность личность воспринимает мысль о «смерти Бога» как мысль о кризисе культуры. Возникает представление о человеке верующем, хотя не обязательно религиозном, пытающемся вырваться за рамки наличной культуры (Кьеркегор, Хайдеггер, Бахтин).
Самопознание единичного (в данном случае, самопознание «я») усложняется. Но оно по-прежнему невозможно без познания всеобщего (в данном случае, познания Бога). Полнота бытия возникает теперь не только из ratio личности, но из всей ее противоречивой цельности. Личность как субъект развития/спасения стала преодолевать антиномию «разум — дух» на основе представления о цельности человеческого, противостоящего миру.
Третий шаг сделал постмодернизм, окончательно отказавшийся видеть в вертикальном представлении о сущности какое-либо основание культуры и перешедший к ризоматическому, «безосновательному» мышлению (Гваттари, Деррида).
Игорь Клямкин: Что вы имеете в виду под «вертикальным представлением»? Довольно экзотическая, по-моему, языковая конструкция…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: