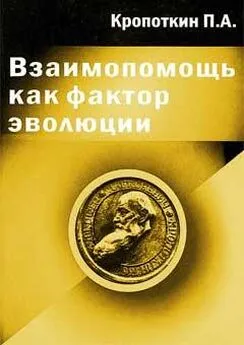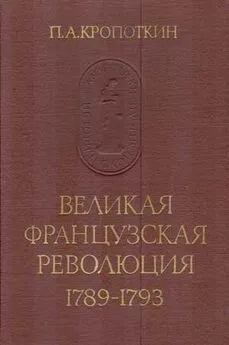Петр Кропоткин - В русских и французских тюрьмах
- Название:В русских и французских тюрьмах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“.
- Год:1906
- Город:Спб., Невский, 22
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Кропоткин - В русских и французских тюрьмах краткое содержание
С английского. Перевод Батуринского под редакцией автора.
Единственное издание, разрешенное для России автором.
Цена 1 рубль.
Типография «Север», СПБ., Садовая, 60.
В русских и французских тюрьмах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, мы не можем согласиться со всеми выводами д-ра Ломброзо, а тем менее – его последователей; но мы должны быть благодарны итальянскому писателю за то, что он посвятил свое внимание медицинской стороне вопроса и популяризировал такого рода изыскание. Теперь всякий непредубежденный человек может вывести из многоразличных и чрезвычайно интересных наблюдений д-ра Ломброзо единственное заключение, а именно, что большинство тех, кого мы осуждаем в качестве преступников, – люди страдающие какими-либо болезнями или несовершенствами организма, и что, следовательно, их необходимо лечить, а не усиливать их болезненное состояние путем тюремного заключение .
Исследование Маудсли о связи безумия с преступлением хорошо известны в Англии [86]. Читая внимательно его работы, нельзя не вынести впечатление, что большинство обитателей наших тюрем, осужденных за насильственные действия, – люди, страдающие какими-нибудь болезнями мозга. Мало того, «идеальный сумасшедший», созданный в воображении законников, которого они готовы признать неответственным за его поступки, является такой же редкостью, как и «идеальный преступник», которого закон стремится наказать. Несомненно имеется, как говорит Маудсли, – широкая «промежуточная область между преступлением и безумием, причем на одной границе мы встречаем некоторое проявление безумия, но еще более того – проявление порочности, вернее было бы сказать: „сознательного желание причинить какое-нибудь зло“; вблизи же другой границы мы встречаем, наоборот, меньшее проявление порочности и большее – безумия». Но, прибавляет он, «справедливое определение нравственной ответственности несчастных людей, обитающих в этой промежуточной полосе», никогда не будет достигнуто, пока мы не отделаемся от ложных представлений о «пороке» и «злой воле» [87].
К несчастью, до сих пор наши карательные учреждение являются лишь компромиссом между старыми идеями мести, наказание «злой воли» и «порока», и более новыми идеями устрашение , и причем обе лишь в незначительной степени смягчаются филантропическими тенденциями. Но мы надеемся, что недалеко уже то время, когда благородные воззрение, воодушевлявшие Гризингера, Крафт-Эббинга, Дэпина и некоторых современных русских, немецких и итальянских криминалистов, войдут в сознание общества; и мы тогда будем стыдиться, вспоминая, как долго мы отдавали людей, которых мы называли «преступниками», в руки палачей и тюремщиков. Если бы добросовестные и обширные труды вышеуказанных писателей пользовались более широкой известностью, мы все давно бы поняли, что большинство людей, которых мы теперь держим в тюрьмах или приговариваем к смертной казни, нуждаются, вместо наказание, в самом бережном, братском отношении к ним. Я, конечно, не думаю предложить замену тюрем приютами для умалишенных; самая мысль об этом была бы глубоко возмутительна. Приюты для умалишенных, в сущности, – те же тюрьмы; а те, которых мы держим в тюрьмах, – вовсе не умалишенные; они даже не всегда являются обитателями той границы «промежуточной области», на которой человек теряет контроль над своими действиями. Я так же далек от идеи, которая пропагандируется некоторыми – отдать тюрьмы в ведение педогогов и медиков. Большинство людей, посылаемых теперь в тюрьмы, нуждаются лишь в братской помощи со стороны тех, кто окружает их; они нуждаются в помощи для развития высших инстинктов человеческой природы, рост которых был задушен или приостановлен болезненным состоянием организма (анемией мозга, болезнью сердца, печени, желудка и т. д.) или, еще чаще, – позорными условиями, при которых выростают сотни тысяч детей и при которых живут милльоны взрослых в так называемых центрах цивилизации. Но эти высшие качества человеческой природы не могут развиваться и быть упражняемы, когда человек лишен свободы, и, стало быть, лишен возможности свободного контроля над своими поступками; когда он уединен от многоразличных влияний человеческого общества. Попробуйте внимательно проанализировать любое нарушение неписанного морального закона, и вы всегда найдете, как сказал добрый старик Гризингер, что это нарушение нельзя объяснить внезапным импульсом: «оно» – говорит он, «является результатом эффектов, которые за многие годы глубоко действовали на человека» [88]. Возьмем, для примера, человека, совершившего какой-нибудь акт насилия. Слепые судьи нашего времени, без дальнейших размышлений, посылают его в тюрьму. Но человек, не отравленный изучением римской юриспруденции, а стремящийся анализировать прежде, чем выносить приговор, скажет нечто другое. Вместе с Гризингером он заметит, что в данном случае, – если обвиняемый не мог подавить своих чувств, и дал им выход в акте насилия, то подготовление этого акта относится к более раннему периоду его жизни. Прежде, чем совершить этот акт, обвиняемый, может быть, в течение всей своей предыдущей жизни, проявлял уже ненормальную деятельность ума путем шумного выражение своих чувств, заводя крикливые ссоры по поводу самых пустячных причин, или оскорбляя, по малейшему поводу, близких ему людей; при чем, к несчастью, не нашлось никого, кто бы уже с детства постарался дать лучшее направление его нервной впечатлительности. Корни причин насильственного акта, приведшего обвиняемого на скамью подсудимых, должно отыскивать таким образом, в прошлом, за многие годы тому назад. А если мы пожелаем сделать наш анализ еще более глубоким, мы откроем, что такое болезненное состояние ума обвиняемого является следствием какой-нибудь физической болезни, унаследованной или развившейся, вследствие ненормальных условий жизни, – болезни сердца, мозга, или пищеварительной системы. В течение многих лет эти причины оказывали влияние на обвиняемого, и результатом их совокупного действия явился наконец насильственный акт, с которым и имеет дело бездушный закон.
Более того, если мы проанализируем самих себя, если мы открыто признаемся в тех мыслях, которые иногда мелькают в нашем мозгу, то мы увидим, что всякий из нас имеет задатки тех самых мыслей и чувств (иногда едва уловимых), которые становятся причинами актов, рассматриваемых, как преступные. Правда, мы тотчас же стремились отогнать подобные мысли; но если бы они встретили благоприятную почву для проявление снова и снова; если бы обстоятельства благоприятствовали им, вследствие подавление более благородных страстей: любви, сострадание и всех тех чувств, которые являются результатом сердечного отношение к радостям и скорбям людей, среди которых мы живем, – тогда эти мимолетные мысли, которые мы едва замечаем при нормальных условиях, могли бы вырости в нечто постоянное и явиться болезненным элементом нашего характера.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: