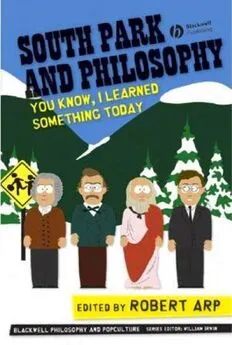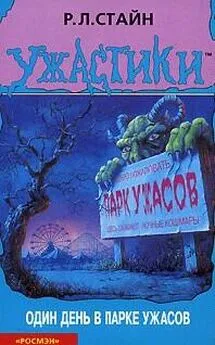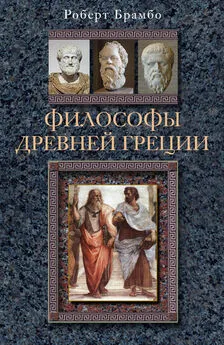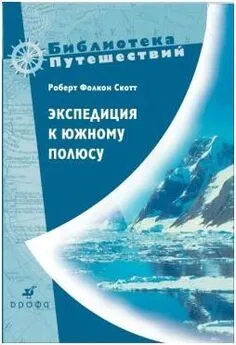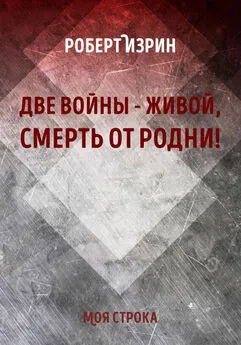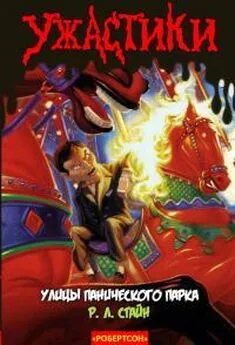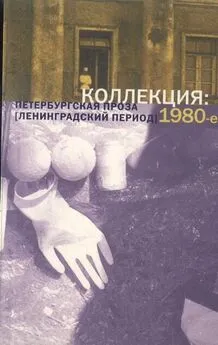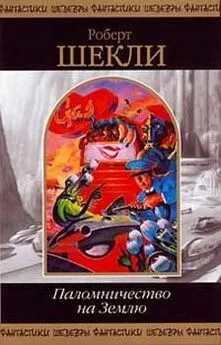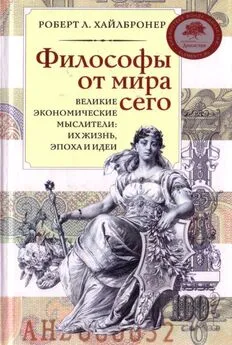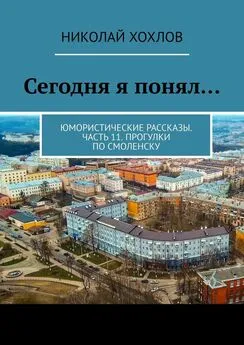Роберт Арп - Философия Южного Парка: вы знаете, я сегодня кое-что понял
- Название:Философия Южного Парка: вы знаете, я сегодня кое-что понял
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Blackwell Publishing Ltd
- Год:2007
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберт Арп - Философия Южного Парка: вы знаете, я сегодня кое-что понял краткое содержание
Ложка меда поможет выпить самое горькое лекарство, а помощь массовой культуры позволит продраться сквозь паутину Канта. У философии в течение нескольких столетий была проблема с пиаром. Эта серия книг призвана изменить такое положение дел, показать, что философия — часть нашей жизни, и нужна она не только для того, чтобы отвечать на глобальные вопросы типа «Быть или не быть?», но и для ответов на такие маленькие вопросы как «Смотреть или не смотреть Южный Парк?» Глубокие размышления о телевидении, фильмах или музыке не сделают вас ни «чайником», ни «полным идиотом». Зато они могут сделать вас философом, тем, кто верит, что неизученная жизнь стоит того, чтобы ее прожить, а ранее пропущенный мультфильм — стоит просмотра.
Книга состоит из статей разных авторов (в осн. доценты и профессора кафедры философии), под редакцией Р. Арпа.
Философия Южного Парка: вы знаете, я сегодня кое-что понял - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Окей, мы не обязаны подчиняться законам, но тогда давайте сформулируем «правила» этого неподчинения. (Кстати, Картман не пишет для Южного Парка законов, чему все горожане должны быть благодарны!!)
Даже если мы соберём в кучу все «хорошие» законы, действительно способствующие защите нас и нашей собственности, всё ещё остаётся вопрос: что нас обязывает соблюдать эти законы? Аргументы в пользу этого, те, что мы видели выше, основаны на взаимности и, судя по всему, имеют смысл, однако современный философ М. Б. Е. Смит из Йельского юридического журнала описывает их столь фигово, что просто беда. (Я бы хотел проставить здесь другие инициалы. Как насчёт М. У. Д. Уайт?)
Почему? Во-первых, Смит говорит, что если нам не нужна какая-то выгода, то нам не надо за нее расплачиваться. Если нужна, то необходимо уже за неё платить, чего нам никогда не хотелось особо. Кто-то может покосить мой газон или помыть машину, а потом затребовать оплаты, даже если я не просил их это делать. Нам, конечно, подсобили, но мы не просили их об этом, и поэтому не должны делать ничего взамен. Во-вторых, есть и другие способы ответить взаимностью на выгоду — необязательно полностью подчиняться и покоряться требованиям закона, если он подразумевает обязательное соблюдение его для всех. (Держу пари, мамке Картмана понравилась бы такая идея).
Смит считал, что взаимность лучше будет аргументироваться справедливостью, также думали Харт и Джон Роулс. Все обязаны подчиняться закону — и ты подчиняйся, своевольное неподчинение будет несправедливостью. Но здесь ещё есть связь с получением выгоды и неоказыванием её в ответ, предполагающая, что каждый получает выгоду от всеобщего подчинения закону и страдает от вреда, причинённого неподчинением закону. А разве каждый раз, когда нарушают закон, кому-то причиняется вред? Если Мисс Заглотник проезжает за знак «STOP» в 4 утра, когда вокруг никого нет, она причиняет вред кому-нибудь? Она что, воспользовалась всеобщим подчинением и причинила им ущерб взамен? Трудно это представить и выводы Смита, понимающего взаимность как справедливость, больше подходят малой группе, чем обществу в целом, где действия одного человека часто имеют меньше влияния, чем действия любого другого.
Рассуждения Смита похожи на платоновские (это ему три инициала помогают — у Платона-то вообще инициалов нету!). Аргументы Платона основываются на той вещи, которую философы назвали «подразумеванием согласия на социальный контракт»: гипотетическое соглашение между государством и его гражданами, что каждый со всем согласен, если ему дан шанс. Помните его мысль, что если вы решили жить в каком-то месте, вы должны согласиться с законами, принятыми там (подчиниться им)? Но есть простая проблема — кто-то может сказать «Не согласен ни с чем», что повлечёт за собой нечто более зрелищное (если мы говорим про одного из пацанов Южного Парка). Но раз это соглашение — гипотетическое, и каждому можно на самом деле не соглашаться ни с чем, какая же тогда сила заставляет защищать и подчиняться закону? Это не говорит о том, что с теорией социального контракта нельзя в мыслях поэкспериментировать, но аргументы Смита (и других) недостаточно весомы, чтобы обосновать её.
Что же выводит Смит? Он заключает, что нельзя безоговорочно подчиняться никаким законам, даже хорошим. Почему? Да потому, что если закон хороший и запрещает нам делать что-то плохое, наши моральные принципы и так не допустят того, чтобы мы это сделали. Факт, что это «плохое» будет нарушением закона, не делает наши обязательства сильнее, так что законы не имеют особого значения. Возьмём, к примеру, убийство — действие, запрещённое законом при любых обстоятельствах, неважно, справедливое оно или нет. Разве если убийство признано противозаконным, оно становится хуже, чем было до этого? Я думаю, что убийство — это плохо, независимо от того, разрешено оно законом или запрещено. Если, преступая рамки существующего закона, злодейства к убийству не прибавляется, зачем нам обязываться его не преступать вообще? Смит говорит — это не имеет смысла, мы обязаны лишь никого не убивать, а закон просто предполагает «штраф» за убийство. (Тоже применительно к курофилии, похищению румынских пятерняшек, или что там у вас еще).
Сущность этой самой проблемы в том, что вещи, которые прописаны в законах, нас и так обязывают соблюдать моральные нормы. Так что исполнять себя, законы заставляют не в одиночку — есть и поавторитетнее вещи. Здесь налицо подразумевание связи морали и права, проводимой сторонниками естественного права, такими как Аквинский, однако многие современные философы её не признают, как те же Остин и Бентам. Эти учёные называют своё течение «правовой позитивизм», и они считают, что закон должен осознаваться как закон уже потому, что исходит от авторитетного субъекта, безо всякой моральной подоплёки.
Х. Л. А Харт, будучи позитивистом, признавал, что вопросы морали, также как и законы, часто имеют дело с обыденными случаями убийства, воровства, насилия (в т. ч. применительно к курам), но необходимости связывать эти понятия между собой — нет. Если законы отождествляются с общепринятыми нормами, вовсе необязательно, что они будут совпадать с нормами морали. Ну а если у закона нет морального основания — нет и морального оправдания соблюдения предписания закона, так что единственной причиной соблюдения законов будет «Потому что это закон». Итак, выходит, что соблюдать законы мы всё-таки обязаны, и мы вернулись к основанным на чувстве справедливости аргументам Харта, о которых говорилось выше.
Вот такие получаются вопросы — непростые, но интересные! Мораль и закон являются методами контроля человеческого поведения и гражданского общества в целом, но их взаимодействие увидеть очень сложно, и философы права сегодня много работают над этими вопросами. Большинство философов права не соглашаются по этому поводу с позитивистами, однако до сих пор сторонники естественной теории права воздерживаются от «боевых дискуссий». (Будем надеяться, когда это случится, это не будет похоже на «игры детской бейсбольной лиги»).
Вопрос, который казался простым — «что такое закон» — превратился в один из самых трудных вопросов в философии. А ведь в Южном Парке поднимаются и другие важные вопросы. Как известно фанатам сериала, Южный Парк — шоу во многом философское, помимо «сортирного юмора» или скрытой (и наоборот) сатиры оно в каждой серии касается обсуждения этики, религии, расизма и всего прочего. И тема природы закона также была затронута, посредством становления Картмана его представителем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: