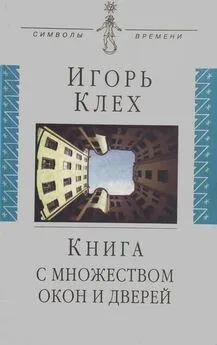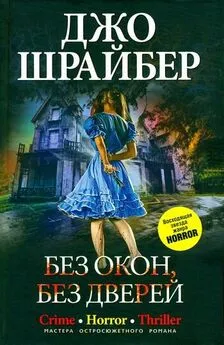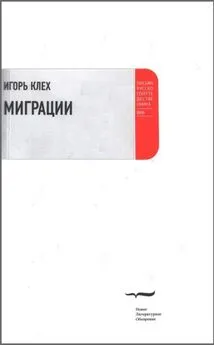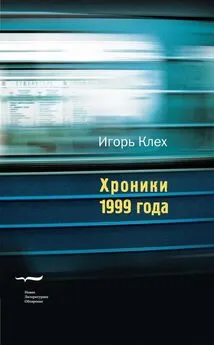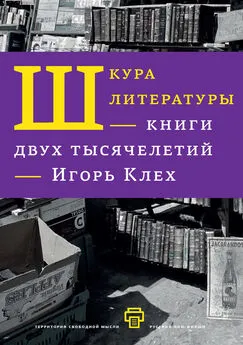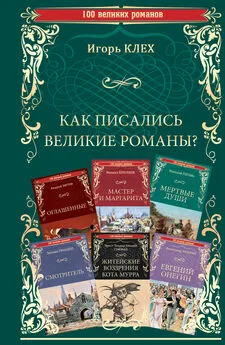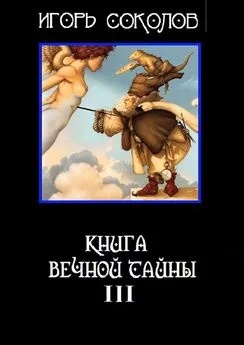Игорь Клех - Книга с множеством окон и дверей
- Название:Книга с множеством окон и дверей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0181-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Клех - Книга с множеством окон и дверей краткое содержание
В издание включены эссе, очерки и статьи одного из самых ярких прозаиков современности, лауреата премии им. Ю. Казакова за лучший рассказ 2000 года Игоря Клеха.
Читатель встретит в книге меткую и оригинальную характеристику творчества писателя и не менее блестящее описание страны или города, прекрасную рецензию на книгу и аппетитнейший кулинарный рецепт.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.
Книга с множеством окон и дверей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Любопытно, что даже мрачноватый и эклектичный ансамбль московского Кремля в январе становится похож на выстроившийся по стойке «смирно» парад новогодних елок — та же гамма: зелено-красно-золочено-белоснежная. Зажигаются над ними звезды. Раздается бой часов на Спасской башне, с которым вся страна привыкла в истекшем столетии встречать наступление нового года.
С Новым годом! Тик-так! Гири на цепи подтянуты под самое горло ходиков, начинающих отсчет нового века и тысячелетия.
О МЕСТАХ
ВВЕДЕНИЕ В ГАЛИЦИЙСКИЙ КОНТЕКСТ
Географический центр Европы — место, где сходятся синусы и косинусы сил, где дремлют таблицы корней и бдят пограничники пяти государств, где границы отвердевают, а люди размягчаются и отрываются от собственных судеб, где все контуры двоятся и накладываются один на другой, как пакет слайдов, где сквозят и просвечивают друг через друга, друг друга засвечивают эпохи и этносы, — дряблая сердцевина европейского дерева, как всякая сердцевина, годящаяся только на карандаши и спички.
То край, над которым завис отточенным бритвенным полумесяцем, — анемичным светом заливая народы (от Мюнхена и до Диканьки), — зловещий знак Захер-Мазоха. То край, чья судьба кажется мельче его собственной тоски.
Отсюда лежит путь в «регионы великой ереси», где размещаются события, не уместившиеся во времени, — в слепые закоулки времени, тупики его и отростки, путь в «Другую осень», проложенный некогда учителем рисования Дрогобычской польской гимназии Бруно Шульцем.
Где-то здесь застрял он в годовых кольцах Европы, в тех отвердевших, продолжающих движение кругах, где, как игла с межвоенной пластинки, съезжал он вместе со всеми — человек с лицом, похожим на туфельку, — странный писатель Бруно Шульц.
Можно было бы сразу сказать, что как писатель он — третье недостающее звено, связующее Кафку с Бабелем, — но больше всего в этом было бы неправды для всех троих. Гораздо уместнее было бы поставить его в ряд двух других приоритетных писателей его времени, его близких друзей и таких же, как он, неудачников (один повесился, другой — эмигрант) — Виткацы и Гомбровича, — но беда в том, что их имена почти ничего не говорят читателям в СССР (и почти исключительно в СССР).
Специфическим для всех троих было запоздалое сецессионерство, парадоксальным образом давшее неожиданные плоды, насытившее творчество каждого из них — хоть в разной мере — духом метафизической пародии и сделавшее их всех художественными радикалами.
Все они, смутно и беспокойно, чувствовали то, чего не чувствовал никто кругом, — банкротство реальности, тот иррациональный фатум, что увлекал все более недееспособную Европу от мировой войны к чему-то уже просто нечеловеческому, притягивающему настоящее, как магнит, — и они пытались исследовать, каждый по-своему, этот оползень, этот паралич воли, — войти в самое сердце мазохизма.
Единственное, что они знали: что уже поздно. Но до какого-то предела человек живет в любых условиях. Пределом этим является, вообще-то, вполне конкретный минимум свободы. Это к слову.
По ряду внешних капитулянских примет жизненная ситуация Шульца во многом схожа с ситуацией Кафки (вплоть до повторяющейся раз за разом патовой ситуации в матримониальной области, задокументированной в длительной и мучительной переписке). Шульц, кстати, первый переводчик «Процесса» в Польше (как выяснилось позднее — литературный редактор). После разорения и смерти отца и ряда внутрисемейных драм фактически на содержании Шульца остались мать, двое сестер, племянник, — что намертво привязывало его к работе в школе, все более ненавистной в силу шаткости его положения (из-за недополученного во Львове и Вене профессионального образования) и прогрессирующего заболевания литературой.
Усугублялось все это вынужденностью жизни в провинции, в низкотемпературной среде, в культурной изоляции. Провинциальный город, собственно, — редукция города как такового. Такие города — прекрасный объект для описания, но не для жизни. В них можно только рождаться и умирать.
Начинал он как рисовальщик и даже добился некоторой известности (знаменитая впоследствии фототипированная «Ксенга балвохвальча» — «Идолопоклонская книга»), известности, которая через несколько десятилетий все же не стала бы европейской, если бы не его занятия литературой.
Что-то самое важное не помещалось у него в эти графические картинки. Ведя обширную и напряженную переписку, он в начале 30-х годов, наконец, нащупывает тот особый поворот письма, который позволит ему извлечь свою тему из нищеты окружающей материи, из дешевизны ее переразвитых, пышных, но онтологически необеспеченных форм, из неартикулированной каши во рту, разрастающейся стилистическими папилломами, — извлечь и стянуть подобием дамского корсета, — не столько что-то построить, сколько пошить, перелицевать из обветшавшего «гардероба» сецессии, круга идей fin de siecle. В середине 30-х две книжечки прозы, выпущенные им, «Лавки пряностей» («Sklepy cynamonowe») и «Санатория для усопших» («Sanatorium pod klepsidra»), стали художественным скандалом, т. е. успехом, и принесли ему массу действительных друзей (как он замечал в письмах, «несправедливо»).
Вначале никто ничего не понял. Без сомнения, это была магическая литература, осмысленно магическая, принесшая в польскую литературу метафору нового времени — метафору, неслыханно ее раскрепостившую, но и повязавшую новой конвенцией, потому что магия — это плен.
Сам Шульц, как кажется, не вполне понимал значение им сделанного, страшно скрупулезно и… близоруко оценивая новизну своего письма. Без сомнения, культурная изоляция, психология задворок определили некоторую диффузность его художественного самосознания.
Так он преклонялся перед Т. Манном (как другие, впрочем, перед Горьким и Ролланом), дорожил перепиской с ним. Томасом Манном, при мысли о котором почему-то приходит на ум поздний, очень поздний Гете в «Разговорах…» Эккермана — Гете, мечтавший дожить до завершения строительства Суэцкого и Панамского каналов. Ему почему-то казалось, что мир сильно переменится в результате этих земляных работ.
Шульцу писалось трудно. Он получил литературную премию за первую книгу, взял длительный отпуск, поехал в Париж, попал на мертвый сезон летних каникул. Европе он был не очень нужен. Он, впрочем, был уверен, что так и будет.
Незадолго до войны он приступает к третьей, давно вынашиваемой, не дающей ему покоя и не дающейся ему книге — «Мессия», в пределе тяготеющей стать романом. В войну рукопись пропала, как почти все его рукописи, большая часть рисунков, писем (уцелевшие читать… как-то не по себе — большая часть корреспондентов и упоминаемых в письмах лиц погибла также). Похоже, что вектор — конца времен — он угадал, но не угадал качества грядущего апокалипсиса, — с маленькой буквы, потому что лишенного своего главного действующего лица, на которого давно (переведя его имя на пряжки ремней) перестали уповать люди его времени, — Бога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: