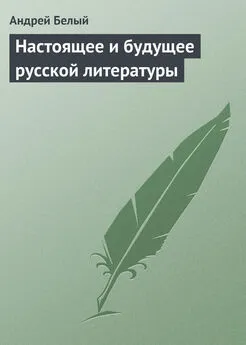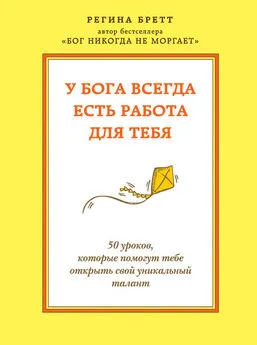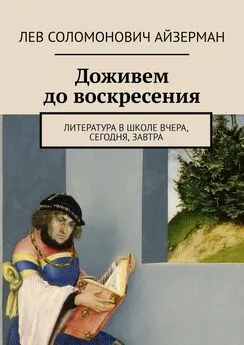Лев Айзерман - Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе?
- Название:Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Айзерман - Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе? краткое содержание
Книга Л. С. Айзермана, заслуженного учителя России, проработавшего в школе 60 лет, посвящена судьбам преподавания литературы. Но она не только о школьных уроках литературы. Она о том, как меняется в нашей жизни отношение к литературе, нравственным устоям, духовным ценностям, эстетическим ориентирам. А потому она адресована не только учителю, но и всем, кого волнуют проблемы нашей современной жизни и нашего будущего, судьбы молодого поколения. Книга рассказывает отцам о детях, а детям – об отцах.
Педагогическая непоэма. Есть ли будущее у уроков литературы в школе? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не нужно думать, что все это изобретение нашего времени. У меня есть изданные еще до революции 1917 года в помощь гимназистам сборники текстов готовых сочинений и сборники планов сочинений. Можно не сомневаться, что гимназист Николай Гумилев в гимназии, которой руководил Иннокентий Анненский, ими не пользовался. Не пользовались ими и гимназисты Александр и Владимир Ульяновы. Но насколько были распространены в гимназии содранные сочинения, сказать не могу.
Что касается советской школы, то до перехода к рынку такие книги, ныне наводнившие книжный рынок, не издавались. Но канон поддерживался иными способами. Вот у меня есть книга (может быть только у меня в Москве, а тем более в стране, она сохранилась), изданная Московским городским отделом народного образования в 1958 году по итогам 1956/57 учебного года: «Экзамены на аттестат зрелости и награждение медалями». Под одним переплетом две книги. В первой – замечания медальной комиссии по каждой школе в отдельности. Во второй – тексты экзаменационных медальных сочинений с рецензиями и с общими замечаниями по каждой теме.
Вот, скажем, тема сочинения по теме «Идея гуманизма в пьесе М. Горького “На дне”». В «замечаниях по теме» ясно и однозначно сказано, что «мы вправе требовать от выпускника освещения необходимого минимума вопросов». А в этот минимум входит всего-навсего 9 пунктов. Вот лишь четыре из них:
«4. Но потребность человека, придавленного эксплуатацией, в мечте может быть использована для его увода от действительности в мир иллюзий. 5. Ложь – религия рабов и хозяев, оружие пассивного, мнимого гуманизма, основанного на снисходительной жалости к страдающему. 6. Утешительная ложь губительна даже для тех людей, которые не способны к социальному действию и для которых правда беспросветна (босяки). Следовательно, ложь в принципе антигуманистична. 7. В судьбах людей, воспринимавших утешительную ложь, – предостережение тому, “кто независим и не жрет чужого”».
И про эти вопросы сказано:
«Важно лишь, чтобы ни один из них не выпал из поля зрения выпускника, ибо это неизбежно повлечет ущербность раскрытия темы».
Я помню скандал, который разразился тогда. Была на экзамене в тот год и такая тема: «Незабываемые образы в романе А. А. Фадеева “Молодая гвардия”». Что ждали от выпускников, ясно: «Было бы очень хорошо, если бы каждый экзаменующийся сумел показать связь с народом того героя или тех героев, образы которых его пленили». Не получилось. И авторы комментариев честно признаются:
«К сожалению, большинство сочинений о незабываемых образах “Молодой гвардии” не отличались самобытным изложением, индивидуальным пониманием незабываемого, памятного образа. Многие сочинения весьма похожи друг на друга и нередко сводятся к сочинению типа групповой характеристики».
Но в том году как раз в нашем районе был ученик, который написал, что с образами молодых героев он уже знаком по другим книгам, а вот что такое фашист, враг, в полной мере узнал только из романа Фадеева. И он написал о незабываемых образах фашистов в романе «Молодая гвардия». В принципе он прав, конечно. Ведь говорим же мы о незабываемых образах Коробочки, Собакевича, Плюшкина, Иудушки Головлева, Присыпкина. Но вам трудно себе представить, что тут началось. Медали этот ученик, конечно же, не получил, но хотели оставить его и без аттестата.
Несколько позже, когда я уже был городским методистом, мне пришлось потратить много сил и нервов, чтобы защитить ученицу и ее учительницу, на которых набросились потому, что ученица в сочинении о любимом литературном герое написала о герое романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи»: и автор не наш, и герой не тот.
Среди составителей и авторов текста изданной Мосгороно книги – лучшие учителя Москвы, в том числе и те, кто скоро станет известным по своим методическим и литературоведческим книгам. Один из них работал в одной из лучших школ страны. Там преподавали блистательные словесники, и ученики писали прекрасные сочинения, которые часто приходилось прятать от проверяющих. Но наступал день, когда они поступали в вуз, и все они писали то, что при этом требовалось. Такова была власть канона и официоза. А «ведь восприятие художественного произведения всегда глубоко личностно, каждый из нас открывает в нем свое, соприкасаясь с его миром всем своим Я, и степень этой сопричастности у разных читателей разная, а порой и полярная.
В 1969 году в актерском классе моей тогдашней школы я дал домашнее сочинение «“Война и мир” сто лет спустя». Вот выписки из четырех сочинений, авторы которых писали об Андрее Болконском. Но как по-разному он увиден, прочувствован, воспринят (в этом классе было больше уроков литературы, чем в обычных, и занятия актерским мастерством, сценической речью работали на развитие эмоциональное прежде всего):
«Я безумно полюбила Андрея Болконского, наверное, потому, что в нем было много нерешенного, не было спокойствия, а был вечный поиск, искание своего Я. Меня очень волновал вопрос, обретет ли счастье и найдет ли смысл жизни Андрей Болконский. Толстой не дал однозначного ответа на этот вопрос. Но меня охватило непонятное радостное чувство, когда я перечитала слова, которые мне так хотелось услышать от Андрея Болконского: “Я не могу, я не хочу умирать, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух…” Не о вечном небе думает в решительную минуту своей жизни Андрей Болконский, а о себе, земле, полыни, струйке дыма. Князь Андрей, стремящийся всю жизнь к чему-то неземному и высокому, понял, что счастье всех на земле».
«Потрясло меня небо над Аустерлицем. Серое, с тихо ползущими темными облаками. В нем есть какая-то спокойная уверенность, надменность, величавость. Такое небо удивительно, это невозможно передать, это надо почувствовать. В нем есть какая-то недосягаемость, что-то высокое и чистое, к чему надо стремиться. Я теперь очень часто, когда иду в школу, смотрю на мчащиеся потоком машины, на толпы людей, в какой-то странной возбужденности спешащих по своим делам. Каждый занят собой. Все бегут, спешат, боятся опоздать. И над всей этой суетой – аустерлицкое небо. Спокойное, медленное. В нем есть что-то, что нам не дано».
«Я не могу понять Андрея Болконского с его страданиями и нравственными мучениями. Они кажутся мне надуманными, нежизненными. В наше время вряд ли найдется человек, который, взглянув на небо, скажет, что вся жизнь “суета сует”, что надо жить не так, а по-другому. Думаю, современный человек, посмотрев на чистое небо, на зеленеющий дуб, на девочку, весело смеющуюся, не пересмотрит свои взгляды на жизнь. Я не могу понять того, что Наташа, взглянув на небо и увидев прекрасный вечер, затаила дыхание и долго не хотела уходить. Конечно, это прекрасно, но мне это чуждо. Я, например, не буду сидеть на подоконнике и говорить своему брату о красоте вечера и т. д. Я думаю, что даже влюбленные через сто лет не будут говорить, что закат красивый, воздух мягкий, а будут говорить, что ветер умеренный, температура ниже нуля, давление ртутного столба 750 мм. Вот что соответствует нашему времени».
Интервал:
Закладка: