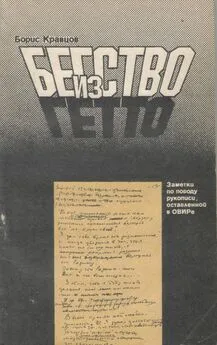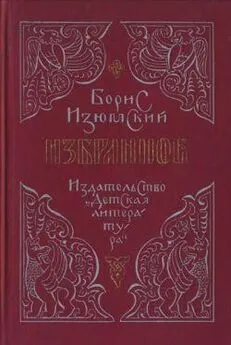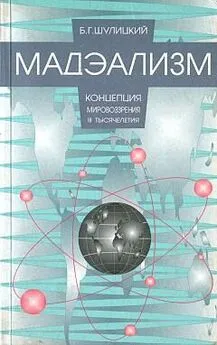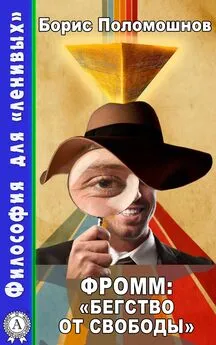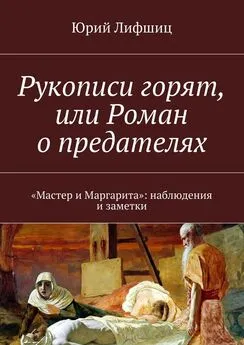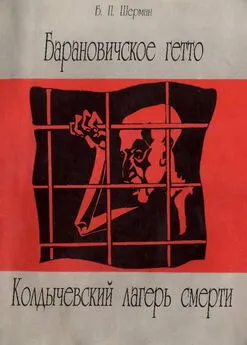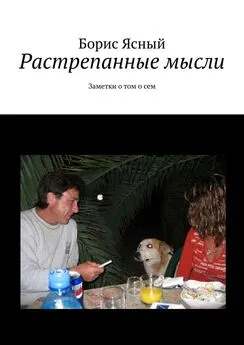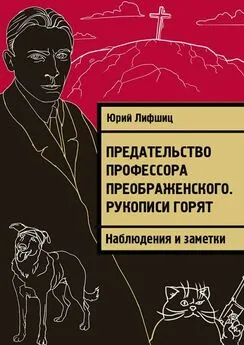Борис Кравцов - Бегство из гетто: Заметки по поводу рукописи, оставленной в ОВИРе
- Название:Бегство из гетто: Заметки по поводу рукописи, оставленной в ОВИРе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1984
- Город:Л.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Кравцов - Бегство из гетто: Заметки по поводу рукописи, оставленной в ОВИРе краткое содержание
Автор этих заметок — ленинградский журналист, выступающий в печати со статьями и документальными очерками, разоблачающими происки империалистической, в частности сионистской, пропаганды. Размышляя над горькой исповедью бывшего советского гражданина, покинувшего Родину, он показывает, к каким необратимо трагическим последствиям приводит этот роковой шаг. В книгу в переработанном виде вошли также некоторые статьи автора, опубликованные в печати за последние годы.
Бегство из гетто: Заметки по поводу рукописи, оставленной в ОВИРе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры — кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность. Настоящий патриот любит человечество, и настоящий интернационалист предан своему народу. Люди Сталинграда умирали за свое родное село, за песню, запомнившуюся с детства, за советский народ, и они умирали за все села Европы, за все песни мира, за все народы земли».
…Когда в первый день войны мне вручили боевое оружие, у меня никто не спрашивал, кто я по национальности, — вся страна поднялась для отпора врагу, и я должен был запомнить только одно: номер своей винтовки. Помнится, в самом конце сорок первого годе наш батальон перевели из-под Пулкова в Ленинград, и здесь мы воочию ощутили и мужество и страдания родного города. Здесь, во втором эшелоне, и нам уменьшили паек, и часть хлебной пайки мы получали сухарями.
В один из дней в город поступили подарки от трудящихся республик Средней Азии, и наш начпрод под охраной двух автоматчиков доставил на санках в часть мороженую тушу барана — сверх нормы. Командир, комиссар вместе с партийным и комсомольским бюро, командирами и политруками рот решили: приготовить котлеты, а для «навара» отчислить часть хлебной пайки, крупы и жира. На батальонной кухне собрались командир Петр Васильевич Южаков, комиссар Борис Абрамович Липовский, секретари партийного и комсомольского бюро, уполномоченный Особого отдела НКВД, дежурные по пищеблоку. Старшины вновь и вновь проверяли списки личного состава: котлет готовили ровно столько, сколько в батальоне людей.
У огромной плиты «колдовали» повара — русский Лешка Леонтьев и белорус Васька Журавлев, и умопомрачительный запах жареного мяса мутил голову.
— Пробу, товарищ майор? — предложил Лешка.
Южаков резко:
— Никаких проб!
На противне котлеты вновь пересчитали… и оказалось — две лишние. Повара виновато разводили руками и предложили компромисс: командиру и комиссару. Те как-то разом побледнели, и Липовский решительно сказал: нет! Воцарилось молчание. Наконец комбат скомандовал категорично и твердо, как в бою:
— Липовскому, для Фернанды.
У Липовского лицо пошло красными пятнами, но комбат не дал ему возразить:
— Старший политрук Липовский! Я приказываю! Журавлев, заверни. Старшинам кормить личный состав.
И, круто повернувшись, вышел.
Я видел, как Васька Журавлев положил эти две котлеты в банку, добавил туда ложку жира, который соскреб с противня, и еще половину своей котлеты…
Фернанда, Фернанда… Это было за год до войны. В поселок, где стояли наши казармы, на лето приехали ребята из испанского детского дома. По инициативе Липовского батальон взял над ними как бы шефство. В клубе крутили для них детские фильмы, маленьких Фернанд, Кончит, Пабло и Хосе закармливали конфетами и печеньем. Мы, сами еще мальчишки, только недавно ушедшие из-под родительского крова, от матерей, сестер и братьев, перенесли на юных испанцев всю свою нерастраченную нежность. И потом — Испания! Светловская «Гренада», Гвадалахара, Пасионария, бои в университетском городке, интербригады, гордое «Но паса-ран!». Эти смуглые черноволосые ребятишки уже понюхали порох, слышали свист бомб и снарядов, видели кровь! Нам все это еще предстояло, и все понимали — ждать, к сожалению, недолго…
Но возраст есть возраст, и наибольшим вниманием пользовалась Фернанда, молодая воспитательница, приехавшая с ребятами и ставшая позднее женой Липовского. И этому никто не удивился и не завидовал. Высокий, стройный, с вьющимися волосами, он был похож на поэта Иосифа Уткина, и, как мне кажется, первые стихи, которые по-русски выучила Фернанда, были уткинские строки из «Песни об убитом комиссаре»: «…Я хотел бы, дорогая, жизнь свою прожить любя. Жить — любить. И, умирая… Снова вспомнить про тебя».
Фернанда осталась в блокированном Ленинграде. Потом, когда она эвакуировалась, долго не было никаких вестей. И уже после войны мы узнали: где-то на кавказских горных дорогах колонну эвакуированных, среди которых была и Фернанда, настигли фашистские танки, и дети и взрослые были раздавлены гусеницами..
Липовский так и не женился вторично. Пока он был еще жив, мы — бывший комбат П. В. Южаков, бывший помкомвзвода, а ныне полковник в отставке Коля Лычагин, бывший отделенный командир, а сейчас бригадир слесарей Паша Власов, я и еще несколько ребят из батальона — часто собирались в его маленькой комнатке на Старо-Невском, как тогда называли эту часть проспекта, наливали стопку для Фернанды, пили за долгую память о ней и о других павших друзьях, вспоминали блокадные дни тепло и грустно одновременно. Русский, белорус, украинец, еврей и незримо присутствовавшая здесь испанка были спаяны тем кровным братством, силу которого мы особенно познали в войну. Уж мы-то, похоронившие многих своих товарищей, побывавшие в госпиталях, знали, что кровь красного цвета, и различается она медиками по группам, а не по расовым признакам. Кто из прошедших войну не помнит эти маленькие пластмассовые футлярчики, «медальоны», в которые вкладывалась бумажка с фамилией, домашним адресом и группой крови, чтобы опознали, если убьют или тяжело ранят. Мы с Липовским были евреи, а группы крови — разные, а вот с Абу Омаркадиевым, лезгином, у нас кровь была одинаковая.
Летом 1983 года в Москве состоялась пресс-конференция Антисионистского комитета советской общественности. Отвечая на вопросы корреспондентов, председатель комитета, генерал-полковник дважды Герой Советского Союза Д. А. Драгунский, в частности, сообщил, что в годы Великой Отечественной войны смертью храбрых пало около 200 тысяч советских граждан еврейской национальности. У них, как у двадцати миллионов других советских людей, погибших в годы войны, кровь была красного цвета, и пролита она за святое и правое дело, в том числе и за то, чтобы не дать нацистам возможность окончательно решить «еврейский вопрос»…
Есть вещи, о которых невозможно писать без чувства гадливости и отвращения, но и молчать нельзя: подлость должна быть заклеймена.
В тридцатую годовщину Победы, когда благодарное человечество вновь воздавало должное подвигу советского народа, разгромившего фашизм и спасшего мир от гитлеровского порабощения, израильская газета «Оплот» опубликовала письмо некоего Хаима Захера на имя редактора. Ну, положим, письмом сей материал можно назвать лишь приблизительно — половина газетной страницы, свыше 350 убористых строк. Из уважения к памяти погибших товарищей, к их матерям и рано овдовевшим женам, к осиротевшим детям не могу привести текст этого письма ни полностью, ни в извлечениях. Все, что там написано, — клевета и тем более гнусная, омерзительная, что автор называет себя участником Отечественной войны, инвалидом, участником обороны Севастополя и Сталинграда, освобождения Будапешта и Вены. Смысл его инсинуаций сводится к тому, чтобы всячески принизить, приуменьшить роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, в освобождении человечества от угрозы фашистского порабощения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: