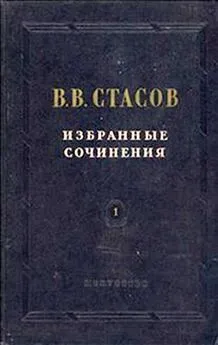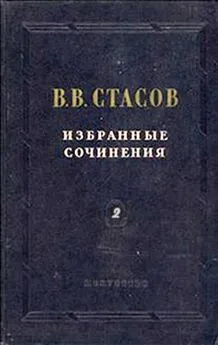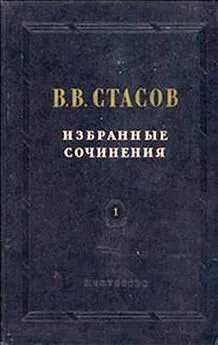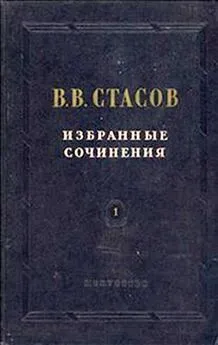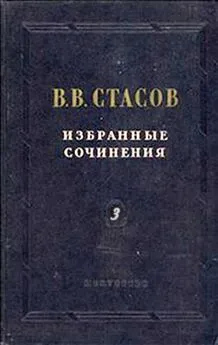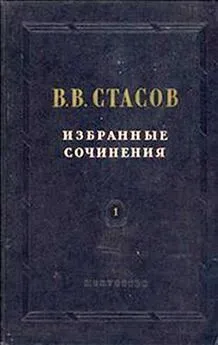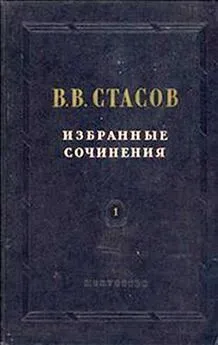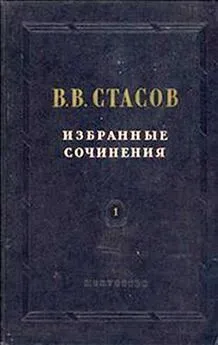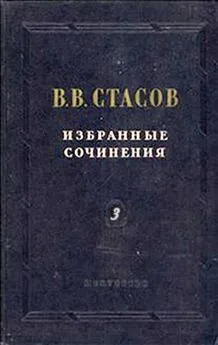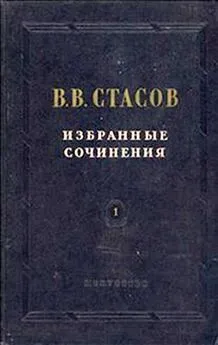Владимир Стасов - Михаил Иванович Глинка
- Название:Михаил Иванович Глинка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство Искусство
- Год:1952
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Стасов - Михаил Иванович Глинка краткое содержание
историк искусства и литературы, музыкальный и художественный критик и археолог.
Михаил Иванович Глинка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нельзя сомневаться, что совокупности столь благоприятных обстоятельств для Глинки не существовало бы, если б он провел первые тринадцать лет своей жизни не в деревне, а в Петербурге, Москве или одном из наших больших городов. Редко случается, чтобы в городах, лишенных и присутствия красот природы, и всего того наивно-художественного элемента, который успел сохраниться в безыскусственном быте народа, могло развиться живое и свежее чувство к этим красотам. Обыкновенно встречается, что художники, воплотившие в формах искусства первоначальные художественные элементы народные, вместе с материнским молоком принимали в себя животворные соки национальности прямо из сердца своей родины. Так было и с Глинкой, а, конечно, этих питательных соков он бы не принял в себя ни в одном из наших городов. Здесь бы он не услыхал ни народных песен, ни народной плясовой музыки, не увидал бы пляски народной и хороводов, ни народных праздников и разгула; ему были бы чужды все те картины, которые постоянно проносились перед нежною, восприимчивою его натурою в первые годы его детства и неизгладимо напечатлели на этой натуре свой склад и образ.
Точно так же, навряд ли где, кроме деревни, мог бы Глинка быть в столь близких соприкосновениях с оркестром, как это случилось во время детства его. Известно, что, за исключением немногих вельмож, ни у кого из русских дворян в течение нашего столетия не было своих оркестров в городах; в деревнях же, напротив того, почти везде сохранилась у богатых помещиков эта привычка прошлого XVIII столетия и оставалась во всей силе даже до 30-х и 40-х годов. Естественным образом репертуар таких оркестров, составленных из дворовых людей, не мог отличаться слишком большим богатством и полнотою содержания; в начале нынешнего века иностранная музыка только что начинала быть известна в наших провинциях, так что по недостатку этого знания и столько же по общему мало выработанному помещичьему вкусу главным содержанием доморощенных концертов по необходимости были национальные песни и пляски. Искусство наше через это не подвинулось, но выигрыш вышел тот, что в этой среде, столько времени бесплодной для художества, родился, наконец, и воспитался настоящий художник, который, по всегдашнему свойству истинных талантов, крепко прилепился к корням, питавшим его детство, и выработал из них впоследствии создания бессмертные. Мы увидим ниже, что этот самый оркестр (дяди Глинки), который заронил в душу Глинки, во время его детства, первые семена для будущих созданий национальных, сделался позже, во время юношества Глинки, самым важным орудием для технического воспитания молодого художника, дал ему возможность такого изучения и такой практики, которых Глинка неизбежно был бы лишен, если бы жил не в деревне у своих родителей, а в котором-либо русском городе.
Наконец, вне деревни он непременно пришел бы, с ранних лет, в столкновение с натурами, непохожими на те, которые окружали его детство; значит, он находился бы под влияниями, менее ему родственными, быть может, покорился бы до некоторой степени влияниям и увлечениям характеров самостоятельных, мужских и энергических, которые, быть может, столкнули бы его с той своеобычной стези, на которой суждено ему было произвести создания великие. Справедливость этого предположения лучше всего доказывается тем, что в годы своей возмужалости и зрелости, будучи втянут обстоятельствами и условиями жизни в круг друзей и знакомых, Глинка не всегда умел сохранить в себе самостоятельность воли и намерений и подчинялся иногда влияниям, вовсе чуждым натуре его таланта. Из подробностей его жизни мы узнаем, что в артистических делах он во многом слушался советов и указаний друзей и что ни в одном из подобных случаев результаты не были счастливы: влияния посторонние только тогда могли бы быть полезны для него, когда происходили бы от натуры, совершенно сходной с его натурою. Но натура его была слишком особенна, слишком сложена из элементов противоположных, редко встречающихся в таком исключительном соединении, так что навряд ли мог бы найтись к ней двойник, и потому она должна была, для сохранения своей цельности, вполне быть предоставлена самой себе, тщательно ограждена от внешних вмешательств и влияний. В мире искусства задача каждой натуры, какая бы она ни была, великая или малозначительная, не есть стремление к мечтательному и редко сбывчивому усовершенствованию по идеальной задаче и образцу, а наибольшее развитие своих особенных (хотя бы и односторонних) средств, стремлений и способностей. Только на этом пути возможно достигнуть великого и высокого, произвести что-либо бессмертное. Таким образом, благодаря ничем не возмущенному действию благоприятнейших для его натуры влияний, выросши, как нежное и драгоценное оранжерейное растение, под защитой от всякого зноя и всякой непогоды, которые если б не погубили, то по крайней мере исказили бы нежно-впечатлительную художническую его натуру, Глинка приехал в Петербург тринадцати лет, со способностями, вкусами и стремлениями, получившими свое особенное, исключительное направление. В продолжение всей последующей жизни Глинки основные элементы его таланта получили каждый свое особенное развитие, но существенно уже не изменялись под влиянием общества и воспитания, никогда не теряли первоначального своего характера, так что до последних дней жизни Глинки черты артистической и душевной физиономии его уже не подверглись никаким глубоким уклонениям от первоначально сложившегося типа.
При больших своих способностях Глинка учился отлично во все время пребывания своего в Благородном пансионе. «Я учился прилежно, — говорит он в „Записках“, — вел себя хорошо, был любим столько же товарищами, сколько отличен профессорами; в 1819, 20 и 21 годах получил на экзамене похвальные листы, гравюру и другие награды. Кстати, о рисовании. В рисовании я, без сомнения, дошел бы до некоторой степени совершенства, но академики Бессонов и Суханов замучили меня огромными головами и, требуя рабского подражания, штрих в штрих, довели до того, что я просто отказался от их уроков. Математику я разлюбил, когда дошел до аналитики; уголовное и римское право мне вовсе не нравились. В танцах я был плох, равно как и в фехтовании… Любимыми предметами моими были языки: латинский, французский, немецкий, английский и потом персидский; из наук — география и зоология. Я сделал столь быстрые успехи в арифметике и алгебре, что был репетитором последней из них. Пройдя геометрию, я вовсе оставил математику, вероятно, потому, что в высших классах число предметов значительно увеличилось». Способность к языкам и необыкновенную легкость в изучении их Глинка разделял с большею частью своих соотечественников, и потому впоследствии времени, без особого труда, к исчисленным языкам прибавил языки итальянский и испанский, которыми владел с такою же легкостью и мастерством, как французским или немецким. Английский и персидский скоро были им забыты по недостатку практики. Любовь же к географии и зоологии была прямым следствием поэтического, художественного дара, всегда столько родственного с одушевленною природой, всегда жаждущего ее очарований, начиная от великолепных масс пейзажных и до самых миниатюрных, отдельных организмов птички или растения; любовь эта была также прямым следствием первых годов, проведенных посреди живой природы, не стесненной рамками города. Страсть к предметам разнообразной и живой природы, первоначально высказавшаяся в жадном чтении путешествий в лета детства, осталась любезным и успокоительным спутником Глинки во все последующие годы его беспокойно волновавшейся жизни; вместе с занятием искусством она была целительным бальзамом посреди посетивших его горестей и печали. При описании путешествий его, точно так же как пребывания в разных краях России, мы встречаем прежде всего, в автобиографических записках и в письмах его, рассказ о природе, которая окружала его и восторгала его воображение, а вместе с тем рассказы о птичках или маленьких зверьках, которыми он всегда любил наполнять одну из комнат своих. «Еще до пансиона, — говорит он, — я начал замечать дивное разнообразие естественных произведений. У дядюшки Афанасия Андреевича (брат матери Глинки, у которого в деревне был вышеупомянутый оркестр) было множество птиц в клетках и в отделенной сеткою части гостиной, где они летали. Я любил смотреть на них и слушать их пение. Нам досталось также множество птиц по наследству от дяди (брата отца). В самый год отъезда из деревни в Петербург у меня уже летали птицы в комнате, а когда мы жили в пансионе (в отдельной квартире, с тремя товарищами и гувернером), над мезонином, где я был помещен, в большом чердаке разведены были разного рода голуби и кролики. Более же всего способствовали развитию страсти моей к зоологии посещения кунсткамеры, под руководством преподававшего нам профессора». Так точно, во время четырехмесячного путешествия на Кавказ, в 1823 году, Глинка завел себе там ручных диких козочек. Так, в 1826 году пишет он, воротясь в деревню после масленицы, проведенной в Смоленске: «Я завел себе птиц разного рода; их было до шестнадцати, между прочими: варакушка, ольшанка, черноголовка и другие этого рода (genre fauvette)». Так, весною 1844 года, перед отъездом за границу, у него было в его комнатах до шестнадцати птиц: «Каждая знала свою клетку, — говорит он, — а по утрам они летали и пели. Я до обеда от скуки играл на скрипке, чтоб их раззадорить». Так, во время пребывания своего в Париже, он каждый день много часов посвящал прогулкам в Jardin des Plantes и держал немало певчих птичек. Так, во время испанского путешествия он завел себе в Севилье (в 1847 году) до четырнадцати птиц, которые летали в нарочно отведенной им комнате. В Варшаве, в 1847 и 1849 годах, он также держал на воле до шестнадцати птиц и зайчиков; в Петербурге, летом 1855 года, у него было в особой комнате около десяти птиц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: