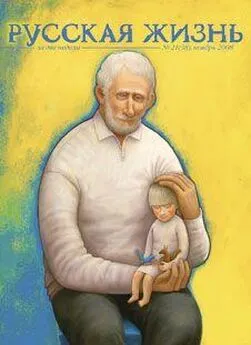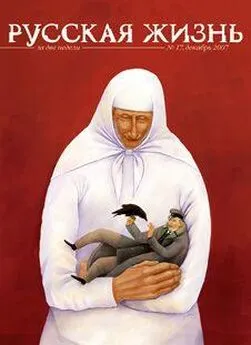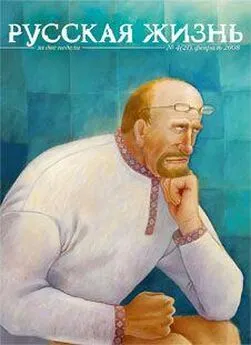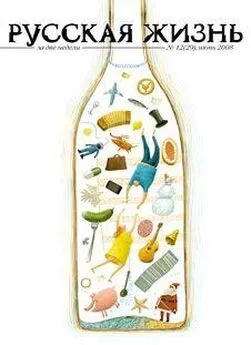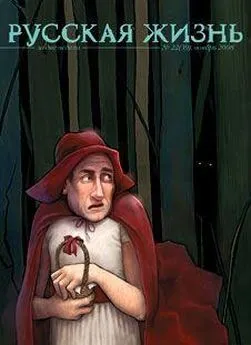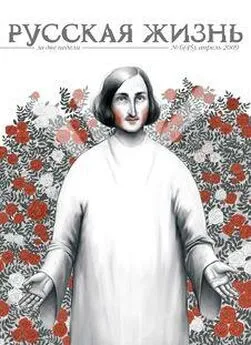Журнал Русская жизнь - Добродетели (ноябрь 2008)
- Название:Добродетели (ноябрь 2008)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал Русская жизнь - Добродетели (ноябрь 2008) краткое содержание
Содержание:
НАСУЩНОЕ
Драмы
Лирика
Анекдоты
БЫЛОЕ
Артур Ренсом - Шесть недель в советской России
Мария Бахарева - По Садовому кольцу
Джон Гэбриель - Скулдер Начало
ДУМЫ
Аркадий Ипполитов - Бедность святого Франциска
Елена Веселая – «Это про меня!»
Евгения Пищикова - Смотрящие
Людмила Сырникова - Keep smiling
Эдуард Дорожкин - Семь заповедей
Борис Кагарлицкий - Эпоха Кинг Конга
ОБРАЗЫ
Лидия Маслова - Стальные трусы
Дмитрий Быков - Гуттаперча
Захар Прилепин - В мерчандайзеры хочу - пусть меня научат
Дмитрий Данилов - Туда и обратно
Дмитрий Воденников - Исповедь китайского лиса-оборотня
ЛИЦА
Олег Кашин - Последний враг перестройки
Вечная мерзлота
ГРАЖДАНСТВО
Евгения Долгинова - Мальчики и матери
Олег Кашин - Сектанктка Света
Захар Прилепин - Не хотелось всерьез, но придется:
ВОИНСТВО
Александр Храмчихин - Гордый Андреевский флаг
СЕМЕЙСТВО
Михаил Харитонов – «М» и «Ж»
Наталья Толстая - Пыталово
ХУДОЖЕСТВО
Денис Горелов - За Базарова ответишь
Максим Семеляк - Оригинальный куплетист
Добродетели (ноябрь 2008) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ведь это сделано, в общем, на пальцах. Но прошибает - может быть, именно по контрасту с самой купринской личностью, которая чувствуется в каждой фразе: видно, что сильный человек пишет, властный, склонный к простым решениям. Сентиментальность - вот, сформулировал наконец, - это именно искусство сильных, пребывающих во временном отчаянии. Слабый слабого не пожалеет, закон такой, много мы видели ему подтверждений; впервые на эту мысль навел меня Константин Райкин, чей острый и парадоксальный ум давно б наплодил ему врагов, когда бы бесконечное, чисто физиологическое обаяние не уравновешивало этой опасной черты. Заговорили про Чаплина - должно быть, говорю я, все-таки исключительных душевных качеств был мужчина, несмотря на свинство с подругами и высокомерие с коллегами. Другой не мог бы так изобразить сирого-малого-убогого… А знаете ли вы, говорит Райкин, какая это страшная сила - сирый-малый-убогий? Как мало он сам склонен кого бы то ни было жалеть? Чаплинский бродяга - это не маленький человек. Попрошу не путать. Это большой человек, переживающий временные трудности. А маленький человек - это гоняющийся за ним констебль или мысленно пожирающий его толстяк из «Золотой лихорадки».
Прошибить современного человека еще трудней - тут требуется железный кулак. Как-то Юрий Буйда, сам писатель огромного темперамента и неоцененной покамест изобретательности, сравнил Петрушевскую с, тысячу раз прошу прощения, классическим немецким офицером, который собачке лапку лечит, а через час идет пытать. Не знаю, какова Петрушевская в жизни, - говорят, очень обаятельна, - но думаю, что жести ей не занимать. С ней трудно, должно быть, и за своих она глотку порвет. Вот Татьяну Толстую - резкую, большую, часто грубую - я не боюсь совершенно: я не чувствую в ней и близко той силы, которая есть в тихой и язвительной Людмиле нашей Стефановне. Потому что и проза Толстой, в общем, не сентиментальна: была попытка в «Петерсе», но - малоудачная. Никого по-настоящему не жалко, и слишком много в мире горячей, цветущей прелести, чтобы отвлекаться на больное и бедное, слабое и жалостное, одинокое и трогательное. Вот веранда с цветными арлекиновыми стеклами, вот радуга вокруг шланга, вот граммофон со старыми пластинками - ребенок в детской, да и только. Сплошное счастье. Нет, сентиментальность - искусство непрощающих, тех, кому с детства оттоптали душу: ничто, кроме одной кровоточащей раны их внимания не привлекает, ничто не веселит. Маниакальная сосредоточенность на несчастных. Как смеешь ты пахнуть, куст сирени, как смеешь ты вообще тут светить, звезда, когда где-нибудь в печальной однокомнатной квартире лежит парализованная старуха, а у постели ее сидит больная дочь?
Сентиментальность как род литературы требует, конечно, определенной редукции мира, такого фильтра на глазах: отмечено Лидией Гинзбург, разбирающей поздние толстовские очерки. Вот, пишет Гинзбург, Толстой дает портрет умершей прачки - и подчеркивает ее мягкие тускло-золотистые волосы, и кроткое выражение бледного лица. А другой автор, объективный, упомянул бы, допустим, ее большие красные руки или вспомнил бы, как груба бывала эта прачка, потому что кротких прачек не бывает (или уж они умирают совсем рано: профессия не располагает к душевной мягкости). Но Толстой сделал так, что нам запомнились кроткие мягкие волосы, и мы рыдаем над прачкой, и все сентименталисты мира подносят к нашим глазам именно такие линзы, чтобы самое жалкое и трогательное бесконечно укрупнилось, а все земное и пошлое отодвинулось в бесконечность. Ведь даже у героев Петрушевской есть какие-то свои радости, даже у всех этих параличных старух и их непутевых, всегда беременных дочерей; но автор этого не видит в упор. Он видит то, что так убийственно, так жарко и жалко назвал «робкой любовью», и в результате мы дергаемся, припеченные каленым железом жалости, и временами ненавидеть автора готовы за то, что он снова и снова к нам прикладывает это клеймо; но автор знает, что иначе с нами нельзя.
Собственно, только это качество - знание всех болевых точек собеседника и умение нажать лишь на некоторые, и то не до смерти, а только чтобы потревожить зажиревшую душу, - я ценю в людях больше всего и опознаю мгновенно. В сказках, которые мне рассказывала мать (и которые она рассказывает теперь внукам, тоже весьма до них охочим), всегда есть какие-нибудь этакие чудовищные детали, их хватало, чтобы я на ночь разревелся. И жена отлично это умеет, и обнаружив когда-то эту черту в ее первых рассказах, опубликованных еще в Сибири, - я влюбился сначала в эту прозу, а потом и в автора. Мне всегда хотелось несколько ее переиродить, что ли, доказать, что я могу не хуже, и потому весь первый год брака мы соревновались в выдумывании жестоких и трогательных историй, в которых рассказчик представал максимально бедным, всеми гонимым… Один раз я довел-таки ее до слез, которых она ужасно потом стеснялась. Сын благополучно перенял эту гнусную, но спасительную способность - со страшной силой изображать слабость; несколько раз он попробовал рассказывать сказки про бедного себя, чтобы не ходить на английский, - но мы ребята тертые, нас на мякине не проведешь.
Лучшие стихи на эту тему написал, конечно, Лев Лосев - человек большой сдержанности и даже холодноватости, но другой бы и не выдержал лосевской жизни, со всеми ее внутренними драмами, эмиграцией и ее последствиями. Могучее это стихотворение, короткое и опять-таки предельно простое, дало нам лучший, пожалуй, символ самой тонкой из добродетелей - гуттаперчу. Нет ничего гибче - но и ничего прочней:
Как осточертела ирония, блядь;
ах, снова бы детские книжки читать!
Сжимается сердце, как мячик,
прощай, гуттаперчивый мальчик!
«Каштанка», «Слепой музыкант», «Филиппок» -
кто их сочинитель - Толстой или Бог?
Податель Добра или Чехов?
Дадим обезьянке орехов!
Пусть крошечной ручкой она их берет,
кладет осторожно в свой крошечный рот.
Вдруг станет заглазье горячим,
не выдержим мы и заплачем.
Пусть нас попрекают сладчайшей слезой,
но зайчика жалко и волка с лисой.
Промчались враждебные смерчи,
и нету нигде гуттаперчи.
Ну как же нет! Она-то уж - никуда не девается. Смею напомнить, что написал эти стихи не какой-нибудь нежный лирик - нет, их написал человек железный, желчный, в чьей ненависти столько страсти и упорства, что куда любому современнику. «Не присягаю, Сатана, тебе служить, иди ты на!» Воистину - только тот и способен очень сильно жалеть, кто умеет очень крепко ненавидеть; и весь Некрасов такой, с его надрывом и желчью. Не знаю насчет сестер тяжести и нежности, но сестры злоба и нежность - это да, видел многократно. «Не ходят одна без другой».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: