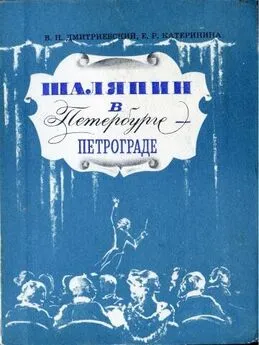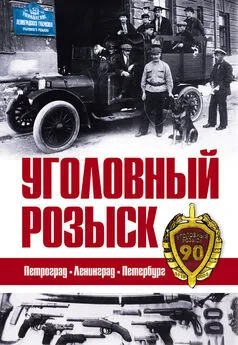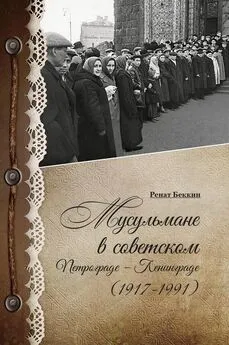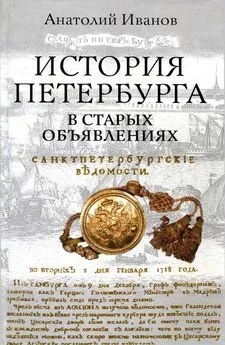В Сашонко - Анатолий Федорович Кони в Петербурге-Петрограде-Ленинграде
- Название:Анатолий Федорович Кони в Петербурге-Петрограде-Ленинграде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В Сашонко - Анатолий Федорович Кони в Петербурге-Петрограде-Ленинграде краткое содержание
Анатолий Федорович Кони в Петербурге-Петрограде-Ленинграде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вскоре затем барин поехал куда-то к соседям со своим Малютою Скуратовым на козлах. Почти от самого Панькина начинался глубокий и широкий овраг, поросший по краям и на дне густым лесом, в котором вилась заброшенная дорога. На эту дорогу, в овраг, называвшийся Чертово Городище, внезапно свернул кучер, не обративший никакого внимания на возражения и окрики сидевшего в коляске барина. Проехав с полверсты, он остановил лошадей в особенно глухом месте оврага, молча, с угрюмым видом, как рассказывал в первые минуты после пережитого барин, отпряг их и отогнал ударом кнута, а затем взял в руки вожжи. Почуяв неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить его.
- Нет! - отвечал ему кучер. - Не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого греха на душу, а только так ты нам солон пришелся, так тяжко с тобою жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю...
И возле самой коляски, на глазах у беспомощного и кричащего в ужасе барина, он влез на дерево и повесился на вожжах.
Выслушав этот рассказ, Некрасов глубоко задумался и всю оставшуюся до Петербурга дорогу ехал молча.
Потом он предложил Анатолию Федоровичу подвезти его к дому, а при расставании сказал: - Я воспользуюсь вашим рассказом. Год спустя Кони получил от поэта корректурный лист, на котором было набрано: "Про холопа примерного -Якова верного". Некрасов просил сообщить -"так ли?" Анатолий Федорович ответил ему, что некоторые маленькие детали нисколько не изменяют существа дела. Прошел еще месяц - и на письменном столе Кони лежал отдельный оттиск той части "Кому на Руси жить хорошо", "в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах". Она вошла в раздел "Пир - на весь мир". Ее и сегодня невозможно читать без содрогания.
А. Ф. Кони не раз посещал поэта в доме Краевского на Литейном, 38 (ныне 36), где жил Некрасов и где размещалась редакция "Современника" (к тому времени, правда, закрытого) и "Отечественных записок", обедал у него в обществе сотрудников этого журнала. Там же познакомился Анатолий Федорович с будущей женой поэта - Феклой Анисимовной, которую Николай Алексеевич называл более благозвучным именем Зина и к которой обращены многие его предсмертные стихи, "полные страдальческих стонов и нежности".
Некрасов прибегал иногда к совету Кони по юридическим вопросам, тем более что у поэта было много врагов, которые распространяли о нем самые злоречивые слухи, стремясь скомпрометировать его и подорвать авторитет возглавляемого им журнала.
Во время предсмертной болезни Некрасова, долгой и мучительной, Кони неоднократно бывал у него и каждый раз, по его словам, с трудом скрывал свое волнение при виде того беспощадного разрушения, которое совершал с поэтом недуг (рак спинного мозга). Когда Анатолий Федорович навестил его за день или два до смерти, Николай Алексеевич попенял ему, что тот редко к нему заходит. "Я отчасти заслужил этот упрек, - писал Кони, - но я знал от его сестры, что посещения его утомляют, и притом был в это время очень занят, иногда не имея возможности дня по три подряд выйти из дому".
Анатолий Федорович извинился. Говоря с трудом, тяжело переводя дыхание, Некрасов произнес слабым голосом:
- Да что вы, отец! Я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, да и всем живущим в Петербурге всегда бывает некогда. Да, это здесь роковое слово. Я прожил в Петербурге почти сорок лет и убедился, что это слово - одно из самых ужасных. Петербург - это машина для самой бесплодной работы, требующая самых больших - и тоже бесплодных - жертв. Он похож на чудовище, пожирающее лучших из своих детей. И мы живем в нем и умираем, не живя. Вот я умираю, а, оглядываясь назад, нахожу, что нам все и всегда было некогда. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастье, но даже об отдыхе, и только умирать есть время...
Похороны Некрасова 30 декабря 1877 года были очень многолюдными, в них приняли участие самые разнообразные круги общества. "Обстановка этих похорон и характер участия в них молодого поколения указывали, - отмечает Кони, - что ими выражается не только сочувствие к памяти покойного, но и подчеркивается живое, активное восприятие основного мотива его поэзии".
Перечислив некоторых из писателей, участвовавших в похоронах, репортер "С. - Петербургских ведомостей" добавил: "Вернее, впрочем, было бы назвать отсутствующих, хотя таких, по-видимому, не было". А по словам "Биржевых ведомостей", "сзади гроба двигалась толпа, состоящая, кажется, из всех находящихся в Петербурге литераторов, артистов и художников, адвокатов, профессоров и пр. Большинство редакций присутствовали в полном составе".
Вечер после похорон Кони провел в доме редактора-издателя журнала "Вестник Европы" М. М. Стасюлевича, где собрались те, кто был большим поклонником скончавшегося поэта и горячо любил его "за каплю крови, общую с народом". Встреча была всецело посвящена усопшему, собравшиеся читали его стихи, говорили только о нем, делились воспоминаниями.
Спустя три десятилетия А. Ф. Кони написал прекрасный очерк о поэте "Николай Алексеевич Некрасов", а еще через тринадцать лет, к 100-летию со дня рождения поэта, - статью "Мотивы и приемы творчества Некрасова". Это его дань памяти великого художника и гражданина нашей Отчизны.
.
* * *
Однажды - это было весной 1874 года - в камеру прокурора окружного суда вошел Виктор Павлович Гаевский, давний знакомый Анатолия Федоровича. По образованию тоже юрист, Гаевский был почти на двадцать лет старше Кони. Он стоял у колыбели Литературного фонда при его создании, в начале 1860-х годов привлекался к судебной ответственности по делу "о сношениях братьев Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичей, М. Л. Налбандяна, В. И. Кельсиева и других с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым". Затянувшееся это дело (так называемый процесс 32-х) слушалось в Сенате (дореформенным судебным порядком) с 7 июля 1862-го по 27 апреля 1865 года. По данному процессу проходил также Иван Сергеевич Тургенев, вытребованный властями из-за границы для дачи показаний в качестве обвиняемого. По-видимому, тогда у В. П. Гаевского, который и сам был не чужд литературных занятий, и завязались дружеские отношения со знаменитым русским писателем. Но не исключено, что произошло это еще раньше, до разрыва Тургенева с некрасовским "Современником" и последовавшего затем его отъезда за границу.
Вот еще один факт, характеризующий В. П. Гаевского. На процессе членов революционной организации (они вошли в историю России под названием ишутинцев, или каракозовцев), состоявшемся после покушения Дмитрия Каракозова на Александра II в апреле 1866 года, одним из главных обвиняемых был литератор-фольклорист И. А. Худяков. Ему, игравшему особенно заметную роль в деятельности петербургского отделения ишутинского кружка, угрожала виселица. Худяков сам выбрал своим адвокатом именно В. П. Гаевского, и, надо полагать, не только из-за высокой юридической квалификации Виктора Павловича, и тем более не из-за обоюдной их любви к словесности. Было в этом выборе, несомненно, нечто другое - определенная духовная общность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Валерия Пименова - Уголовный розыск. Петроград – Ленинград – Петербург [сборник]](/books/508089/valeriya-pimenova-ugolovnyj-rozysk-petrograd-len.webp)