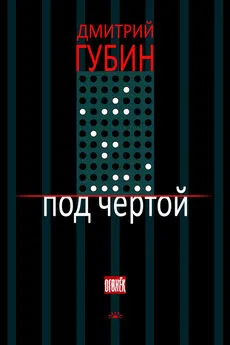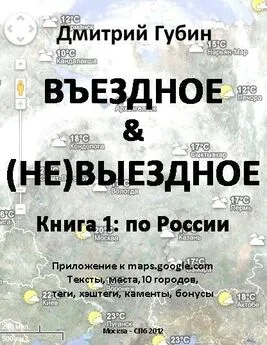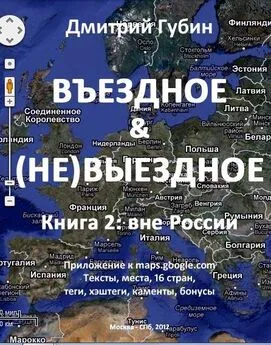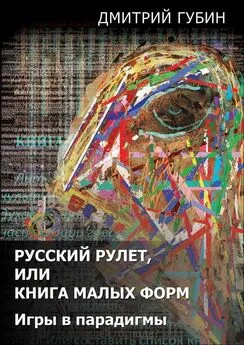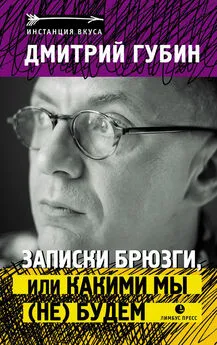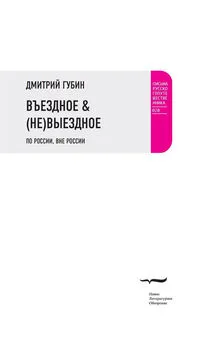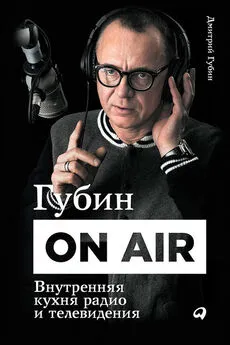Дмитрий Губин - Под чертой (сборник)
- Название:Под чертой (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Губин - Под чертой (сборник) краткое содержание
Обозреватель «Огонька» Дмитрий Губин, ехидно фиксирующий, как Россия превращается в страну вотчинной автократии, зафиксировал сначала в своих текстах редакторские замены имени «Владимир Путин» на слово «государство», затем отказ публиковать тексты даже с «государством», а затем и предложение уволиться из журнала. Уволившись, он восстановил и собрал вместе сокращенные, измененные и отклоненные тексты, подведя черту и дав соответствующее название книге.
Под чертой (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот почему я прошу Айка и семинаристов написать в своих ЖЖ про 7 прекрасных вещей, которые существовали в СССР, и которых им не хватает сегодня. «7» – условное число, но безусловное ограничение, потому что ограничение создает смыслы. Если бы твиты не ограничивались 140 знаками, то твиттер бы никто не знал. Алмазы рождаются под давлением. А второе важное условие – они описывают свои представления о советском прекрасном, но не корректируют посредством журналисткой проверки. Потому что меня в данном случае интересует не то, умеют ли они критически относиться к полученной информации, а умеют ли донести до читателя то, что их родители, дедушки, бабушки, а также телететеньки и теледяденьки донесли до них.
В ответ получаю семь текстов. От Стеллы, Эли, Богдана, Лены, Насти, Саши, Алины. Довольно (кроме одного) ироничных: взять заголовки «Неволя, равенство, гадство» у Богдана или «Воображариум Советского Союза» у Лены. На репрезентативную выборку не тянет, но тенденцию разглядеть можно.
Итак: что в Советском Союзе поколению их родителей понравилось настолько, что хочется вернуть?
Бесплатность образования, здравоохранения, медицины – 5 упоминаний. (ну, это понятно. Они-то за свою учебу платят, даже когда платят не они).
Стабильность и уверенность в завтрашнем дне – 5.
Сплоченность, дружелюбие, доброта советских людей (выход «советской доброты» на призовое место для меня полная неожиданность! Я помню, каким хамлом были советские люди, особенно в магазинах. Куда прете!) – 4.
Безопасность жизни, отсутствие криминала – 4.
Хорошее образование, интеллектуальная жизнь – 3.
Социальная защищенность – 3.
Самореализация, развитие искусств, включая телевидение – 3.
По 2 упоминания: развитие спорта, мощная армия, качественное здравоохранение, всеобщая обеспеченность жильем.
Единожды помянуты: техническая база (включая космическую), любовь к Родине и замечательный вкус жвачки.
Действительно – воображариум.
И, разумеется, я не удерживаюсь. Рассказываю, например, что спорт в СССР был не столько массовым, сколько обязательным, но обязаловка распространялась лишь на школьников и студентов, причем школьники от «физры» косили повсеместно (как, впрочем, и сейчас). Что в школьных раздевалках не было душевых, и после физры старшие классы воняли козлы козлами. А для взрослых не было никаких фитнес-залов, вообще ничего, и абонемент в бассейн добывался по блату (редакцию ленинградского журнала «Аврора», где я работал, обабонементчивал директор Зимнего стадиона Лелюшкин. Заход в бассейн был по сеансам и предполагал «сухое» время, когда все, от карапетов до взрослых, строились в шеренгу и под «раз-два-три!» выполняли коллективную разминку. Под индивидуальные занятия инфраструктура СССР заточена не была; помню, я занимался теннисом – жуткая польская алюминиевая ракетка, достал по блату – по выходным в ПТУ).
Но я быстро умолкаю. Вон, Стелла пишет, что во времена СССР «ключ от квартиры можно было спокойно оставить под ковриком у двери. Все так делали. И все знали, что все так делали. Но никто не боялся, что об этом все знали». И что теперь – спорить, что ли? Стелле так рассказывал кто-то из родни, а родня у нее из Армении, и, возможно, там дело так и обстояло в маленьких городах. У меня другие воспоминания. Наш дом дважды или трижды обворовывали, мать пырнули ножом из-за песцовой шапки, отца убили средь бела дня из-за американских джинсов – ну, а любого подростка (включая меня) били, если он пересекал границы своего района. И Аркадий Ваксберг в «Литературной газете» писал огромные очерки о чудовищной жестокости немотивированных преступлений.
Но, повторяю, я не ставил себе целью кого-то переубеждать.
Память обладает алхимическим свойством превращения в золото любого дерьма.
Но неожиданно я себя поймал на том – а вы не поймали? – что и у меня есть тоска по кое-чему, существовавшему в СССР, и чего больше нет, хоть тресни. Например, были скидки 50 % на билеты в купейные вагоны школьникам и студентам (сейчас – лишь в плацкартный вагон). И я мог гонять в студентах из Москвы в Ленинград и обратно за 12 рублей, плюс еще 2 рубля на белье. Или черный хлеб по 18 копеек буханка. Если попасть к привозу, он был еще горяч, и тогда горбушка, политая нерафинированным (другого не было), оставляющим в бутылке осадок пахучим подсолнечным маслом, с накинутым кругляшом колбасы – господи, что за вкуснятина была! Увы, уже через пару часов этот хлеб превращался в резину. Как весь тот хлеб, что продается в полиэтилене сегодня…
Но если по-крупному, то в моей советской жизни были две исчезнувших ныне сверхценности.
Первая – это поэзия. Мы ею жили. Презираемый Асадов, обожаемый Самойлов, самиздатовский Бродский и тамиздатский Лосев (мой шок от «Тайного советника» с его «я делаю ногою толстой па, одно вперед и два назад, как Ленин, сгибаю с хрустом та-та-та – забыл! – колени, и сдержанно хихикает толпа»). Начитавшись Самойлова, я написал ему влюбленное письмо, и, получив ответ, завалился в Пярну, однако он не прогнал, а принял в число тех, кто его окружал. «Юлия Кломпуса» я выучил наизусть. Как и пушкинский немаленький «отрывок из Фауста». «Воронежские тетради», «На ранних поездах» – доставалось на ночь, перепечатывалось. Сергей Марков с его «Мариной» и «Анной»: «Когда мы Анну хоронили, тащили гроб, по броневым автомобилям блуждал озноб». Синий том Ахматовой большой серии «Библиотеки поэта», купленный за 6 долларов в «Березке» (а доллары покупались по 4 рубля, и за это грозил срок). Межиров: «Мы на «ты», на «ты», на «ты» лишь в пределах простынь белых нашей узенькой тахты». Евтушенко: «Ты спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?» Постель была расстелена, и ты была растеряна…» И Алла Пугачева, во что сегодня не верится, перед сном тогда читала Мандельштама, и Мандельштама пела, пусть и хихикали снобы, как она, в угоду цензуре и худсовету, подправляла слова. Но все же – «Я вернулась в свой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез».
Да, этого мне реально не хватает. Как справедливо сказал Бродский, поэзия есть идеальная форма репрезентации чувств. Чувств не стало меньше, репрезентация пошла другая. «Ты это, зайка, короч… Типа, я тебя, слышь, люблю» – гопническая формула, как подметила куда-то сгинувшая писательница Денежкина, а также режиссеры Костомаров и Расторгуев, которые из снятых ростовской гопотой на мобильник клипов смонтировали блестящий фильм «Я тебя люблю».
А второе, чего не хватает – это интеллектуального пиршества в кругу людей с образованием. В СССР интеллигенция означала круг, где знанием гордились, где знание добывали, и нередко с боем (я первокурсником отправился в научную библиотеку МГУ, находившуюся во дворе журфака, с намерением взять Фрейда. И мне быстренько объяснили, что до 4 курса студенты пользоваться библиотекой не имеют права, а Фрейд без письма научного руководителя мне не светит вообще никогда. Ну и что? Все равно добыл Фрейда. Мальчика, не читавшего Фрейда, однокурсники бы заклевали).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: