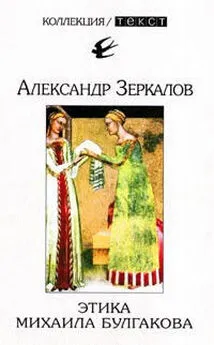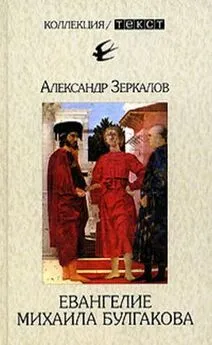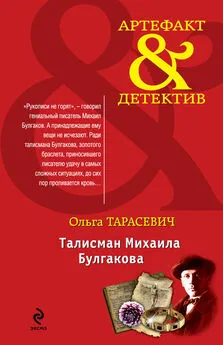Александр Мирер - Этика Михаила Булгакова
- Название:Этика Михаила Булгакова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-7516-0409-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мирер - Этика Михаила Булгакова краткое содержание
Книга Александра Зеркалова посвящена этическим установкам в творчестве Булгакова, которые рассматриваются в свете литературных, политических и бытовых реалий 1937 года, когда шла работа над последней редакцией «Мастера и Маргариты».
«После гекатомб 1937 года все советские писатели, в сущности, писали один общий роман: в этическом плане их произведения неразличимо походили друг на друга. Роман Булгакова — удивительное исключение», — пишет Зеркалов.
По Зеркалову, булгаковский «роман о дьяволе» — это своеобразная шарада, отгадки к которой находятся как в социальном контексте 30-х годов прошлого века, так и в литературных источниках знаменитого произведения. Поэтому значительное внимание уделено сравнительному анализу «Мастера и Маргариты» и его источников — прежде всего, «Фауста» Гете.
Книга Александра Зеркалова строго научна. Обширная эрудиция позволяет автору свободно ориентироваться в исторических и теологических трудах, изданных в разных странах. В то же время книга написана доступным языком и рассчитана на широкий круг читателей.
Этика Михаила Булгакова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это цепь прямых подмен в реалистическом сюжете. В «дьяволиаде» подмены, пожалуй, тоньше и интересней.
Мефистофель-Воланд подкупает деньгами не Гретхен, а Фауста-Мастера, и не для грешных действий, а для богоугодных. Однако по меркам социальной среды эти действия — величайший грех, «религиозная пропаганда». На него обрушиваются кары: людское осуждение и тюрьма. Преследование и казнь Гретхен были злодеянием, если судить по-человечески, но ведь казнь была законной — а Мастера казнили противозаконно.
В дьяволиаду «Фауста» здесь вплетается дьяволиада «Иова»: кары настигают праведника. Его травят, он лишается своего детища, он заболевает страшной болезнью — но, превосходя в терпении даже Иова, ни секунды не ропщет. И совершенно в манере Книги Иова зло творится руками дьявола. Ибо первым псом в затравившей Мастера своре был «критик Ариман». (Мы уже достаточно хорошо освоились с символической системой романа, чтобы предположить: имя зороастрианского дьявола, «духа тьмы и олицетворения зла» [119], применено Булгаковым не случайно. И теперь, в ракурсе «Фауста» и «Иова», можно считать подтвержденной прежнюю догадку: настоящие дьяволы — не Воланд и его приближенные, а власть и ее ариманы. Почти подтвержденной, но не доказанной: пока нам не хватает источника, окончательно проясняющего этот вопрос.)
Центральный перевертыш сопровождается несколькими менее существенными. Азазелло является к Маргарите как Мефистофель к Фаусту и соблазняет ее исполнением желаний. Как Фауст, она приходит на шабаш, сопровождаемая не самим владыкой, а второстепенным дьяволом. На шабаше ей также является женщина со шрамом на шее (Гелла). Фауст требует, чтобы нечистый освободил Гретхен из тюрьмы — здесь Маргарита просит Воланда об освобождении Мастера.
Наконец, блестящая символическая подмена. Мефистофель приводит к тюрьме черных адских коней, но Гретхен отказывается уйти из тюрьмы, от суда — отказывается сесть на адское отродье. Маргарита же первая вскакивает на одного из трех черных коней, храпящих у домика Мастера, его новой, добровольной тюрьмы.
На первый взгляд, можно вздохнуть с облегчением — кое в чем мы разобрались. Очевидно, всей системой переиначиваний «Фауста» Булгаков дает понять, что этика нового времени, этика деятельной перестройки мира для него, Михаила Булгакова, неприемлема. Его праведник — человек, удалившийся от мира. Его мораль — схимническая мораль несотворения зла путем отказа от мирской деятельности. Он отказывается от Фауста и более чем принимает Иова: делает своего Иова не богачом, а нищим, не отцом семейства, а одиночкой; иудейского праведника, богатого скотовода, он заменяет традиционным христианским бессребреником и аскетом.
Но — опять-таки на первый взгляд, ибо Мастер удаляется от мира не для молитв и поста, а для творчества. И праведность его — на таких условиях — обусловлена иной этико-теологической структурой мира.
Земное зло не принадлежит Богу — ни прямо, ни через сатану. Оно принадлежит только людям, и так было всегда. Поэтому на землю послан не Бого-человек, а дьяволо-человек, Воланд, — он к мирской деятельности ближе, хотя повернуть людей к добру он не может, сколько бы ни хотел. Приверженность к сатане-Воланду не считается грехом, что видно по судьбе Маргариты, разделившей судьбу праведника.
В этической системе Булгакова сохранены два элемента традиционного христианства: сострадание и любовь земная. Маргарите прощается деятельность, ибо то, что Фауст делал для себя и для общественного созидания, она делает для любимого человека.
Однако в этой, по видимости стройной конструкции есть одна смущающая деталь. Мастер — истинный праведник, но Булгаков не наградил его «светом» — раем. Это тем более удивительно, что он писатель, причем писатель по преимуществу. Он даже лишен имени: «мастер» — со строчной буквы. Его творением, «романом» объясняется лестное внимание Воланда и Иешуа; роман как-никак прочитывается на небесах. Мастер почти приравнен к Иешуа, они кончают земной путь одинаково — в начале грозы весеннего полнолуния. Можно добавить еще соображения «от противного» — антигерои-писатели Берлиоз, Бездомный (в начале), Рюхин; писательский клуб, выжженный огнем, и т. д. Вспомним также, что «Мастер и Маргарита» суть «литература о литературе». Образ Воланда, нашпигованный литературными аллюзиями; образы Иешуа и других героев, также пролитературенные; все строение романа — мир литературы, просвечивающий через реальность, и социологическая мысль, раскрывающаяся через этот условный мир.
Воспользуемся этими соображениями, чтобы понять вину мастера. Он творческий человек, и вина должна быть творческая. Для начала обратимся к теме, которую мы почти не затрагивали до сих пор: изображение литературного микромира Москвы.
30. Сытый по-голодному не разумеет
В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.
И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»Источник — рассказ А. Грина «Фанданго» [120]. Комментарий, формирующийся при совместном чтении рассказа с «Мастером», я назвал бы драматическим. Нечто тревожное заметно уже в самом факте выбора: рассказ слабый. Но вот — это единственный обнаруженный мной источник-спутник, принадлежащий перу советского писателя, опубликованный незадолго до начала работы над «Мастером» и существенно важный для понимания романа в целом. Совместное прочтение «Фанданго» и «Мастера» проявляет этическую оценку литературного мира Москвы, советской литературы того времени; то есть вскрывает горячую точку булгаковского этоса.
Соответственно, анализ будет подробным.
Автор рассказа, Александр Грин, мог быть прототипом Мастера: писатель талантливый и своеобразный; творец, одержимый литературным трудом; литератор, абсолютно противопоставленный советской литературной догме, писавший обычно о выдуманных странах и непонятных временах. По формальным признакам — прямой прототип, но с одним отличием. В годы, когда от писателей требовали следования «социалистическому реализму», романтико-мистические вещи Грина довольно широко публиковались.
Поставим на этой загадке осторожное нотабене и приступим к анализу.
В технике есть термин: «скелетная схема»; это наиболее общее изображение сложной структуры. Так вот, скелетные схемы «Фанданго» и «Мастера» полностью совпадают. Дьявол прибывает под видом профессора в столицу, устраивает для жителей бесплатную раздачу экзотических вещей и исчезает, оставив за собою смятение. Из всех горожан он выделяет одного, вводит его в особое течение времени — внутри которого герой женится — и благодетельствует его и жену. При этом действие происходит не в гриновской выдуманной стране, а в Петрограде, второй русской столице. Очень важно, что дьявол не ортодоксальный — с рогами и копытами, а литературный человеко-дьявол, пришелец из других книг [121].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: