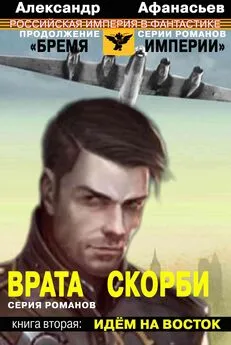Лев Вершинин - Идем на восток! Как росла Россия
- Название:Идем на восток! Как росла Россия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0840-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Вершинин - Идем на восток! Как росла Россия краткое содержание
Поволжье, Урал, Сибирь Дальний восток. Эти регионы мы привыкли воспринимать как привычную и неотъемлемую часть России. Так было далеко не всегда. Россия стала Россией, вырвавшись за тесные пределы Московского княжества. Русские казаки, воины и землепроходцы, шли на Восток, чтобы создать великую империю, которая досталась нам в наследство от наших великих предков.
От Казани до далеких Ямала и Чукотки выросла наша страна всего за несколько столетий. Мы все слышали о колониальных империях европейских держав, но мало кто задумывался, что мы живем в стране, которая не просто смогла создать страну, занимающую 1/6 часть суши, но и удержать ее где грамотной политикой, где военной силой, а где России помог счастливый случай. Впервые, в простой и популярной форме, в этой книге рассказывается о том, как созидалась Империя.
Известный писатель, публицист и блогер Лев Вершинин известен как автор целого ряда остроплитических и научно-популярных книг. С его труда, который станет настоящим подарком для всех, кто интересуется русской историей, мы начинаем серию «Собирая Империю». Вас ждет подробный и увлекательный рассказ лучших авторов о том, как Россия, в огне войн, в железной поступи казачьих отрядов и в шепоте дипломатических миссий из европейской далекой окраины превращалась в величайшую Империю
Идем на восток! Как росла Россия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как бы то ни было, малую войну чукчи к концу долгой зимы с 1745 на 1746-й тоже проиграли. Умилыки перестали нападать даже на совсем маленькие группы русских, предпочитая при их появлении уходить в глубины тундры или бежать на близлежащие острова. Примерно в это время, воспользовавшись умиротворением окрестности, картограф Якоб Линденау (автор интереснейших мемуаров) и геодезист Перевалов доводят до ума описание Чукотки и обитающих там народов. Тогда же вице-губернатор Сибири, русский швед и «земельный инженер» Лаврентий Ланг, состоявший с Павлуцким в приятельстве и по мере возможности помогавший, прислал в Сенат «рапорт маиора и при том рапорте чертеж, к пользе российской всю чюкоцкую землю открывающий», прося для вояки очередного звания «подполковник». Дмитрий же Иванович, завершая проделанную работу, летом 1746 года снаряжает второй большой поход. Не столько для подавления противника (подавлять уже, в общем, некого), сколько для закрепления темы. Успехи скромны (найдено и разгромлено пять небольших стойбищ, убиты восемь умилыков и десятка два воинов, сколько-то женщин и детей взято в плен). Оленей, правда, на сей раз отбили относительно немного, всего 650 голов, но и то хлеб. И – вновь на многие-многие месяцы – тишина. Где бы ни прятались «настоящие», их не видно и не слышно, и отыскать следы не в силах даже ищущие из всех сил юкагиры…
Идущие на смерть
15 января 1747 года Сенат издал очередной Указ, вновь, и уже с крайней настойчивостью, требуя усмирить чукчей «военною оружейною рукою». На сей раз про «ласково, без насилия» не было даже оговорок. Не знаю, успел ли Дмитрий Иванович ознакомиться с документом – скорее нет, чем да, путь до брегов Невы до Охотского моря был неблизок, – но особых вариантов у него не было. В долгую ночь до Анадырска дошли слухи, что в тундре объявился новый шаман-умилык по имени Тавыль – «Кивающий Головой», – и что этот молодой да ранний подговаривает «настоящих» совершить большой набег на селения юкагиров, а то и на острог. Садиться в осаду означало потерять инициативу и уронить только-только воссозданный авторитет русской власти. Плюс к тому, получить харизматического лидера «чукоч», а с ним и новую войну на годы, чего никак не хотелось. И Павлуцкий, несмотря на то, что продовольствия не хватало, готовил на конец апреля упредительный поход в тундру, чтобы расставить всех слоников по полочкам. Однако не пришлось. 12 марта в Анадырск примчались расхристанные коряки с вестью о том, что люди Тавыля, числом до сотни, пару часов тому угнали у них семь оленьих табунов, в том числе четыре казенных, убили троих и увели с собой восемь человек. Притом помянув, что «Казак-Морж стал стар, рыбу не ловит, быть ему на аркане у Кивающего».
Это был вызов. Оленей, безусловно, надлежало вернуть, но после таких слов посылать кого-то в погоню, сам оставшись в Анадырске, Павлуцкий не мог: завтра же вся тундра стала бы судачить о том, что он и в самом деле «рыбу не ловит». А следовало спешить, и потому, приказав сотнику Алексею Катковскому, поставив на лыжи всех, кто может идти (таковых набралось 202 штыка), идти следом, сам с отрядом в 97 бойцов – сколько уместилось в упряжки, для которых доставало оленей, – начал погоню. Спустя двое суток, утром 14 марта, близ устья реки Орловой, Дмитрий Иванович нагнал уходящие табуны – но чукчей было впятеро больше, чем сообщали коряки. Они стояли на невысокой сопке, позже названной Майорской. И Тавыль тоже был там.
Молодой умилык оказался куда умнее, чем можно было предполагать. В сказаниях чукчей сказано, что воины его шли к месту сбора «тихо, как нерпа плывет, по горсти, по горсти, а потом в снег зарывались молча, молча… Ждали». Можно (или даже нужно) было остановиться. Или даже слегка отойти – людям Катковского, по всем расчетам, вот-вот следовало появиться. Некоторые это и предлагали. Однако сотник Лев Кривошеин рассуждал иначе: по его мнению, атаковать «настоящих» следовало немедленно, с ходу, пока они «стоят полным скопищем» и не рассыпались по округе. С ним согласился и Павлуцкий. Связать противника боем, удержав его до подхода лыжников означало, с появлением подмоги, погасить восходящую звезду Тавыля, а это оправдывало риск. Думаю, майор помнил о судьбе Шестакова, но там был совсем иной случай: Афанасий Федотович на Енгаче не имел никаких шансов на успех, здесь же достаточно было продержаться час, максимум два. А в своих людей Дмитрий Иванович верил. Но в своих людей верил и Тавыль. Тем более – такого тундра еще не видывала – в его ополчении был и женский отряд, возглавляемый его женой, звавшейся Девушка-Топор, и прекрасные дамы подбадривали воинов вовсю, «обещая убить больше врагов, чем робкие, и тем опозорить робких».
Короче, вышло примерно так, как спустя 132 года с небольшим при Изандлване: «настоящие», выдержав первый залп, не позволили «таньги» перезарядить ружья. К тому же сверху вниз атаковать легче, чем снизу вверх, а чукчи стояли на холме. Согласно отчету тех, кому довелось выжить, «пошли неприятели чюкчи на копьях, также и они насупротив их, неприятелей чюкоч, пошли на копьях же и бились с ними не малое время… Друг у друга копья отнимали, а протчие служилые, у которых отбиты были ружья, оборонялись и ножами». Потери сразу оказались немалы, но смять русских воинам «Кивающего» все же не удалось: изрядно поредевшие анадырцы укрылись в «крепостице» из нарт и заняли глухую оборону. Теперь, в свою очередь, отступать, не теряя лица, не мог позволить себе Тавыль. А о дальнейшем рассказывают по-разному.
Генерал-отец ему отпуск дал…
В чукотских сказаниях сладострастно смакуются самые изысканные версии. В одном варианте «седого таньги, попав стрелой в глаз, схватили. Развели огонь, жарят его у огня, хорошо изжаренное мясо срезывали ломтиками и жарят снова. Умер». В другом, еще более утонченном, «раздели начальника нагим, надели на голову ему ремень, достали чикиль, привязали, заставили бегать по снегу кругом, дергают за чикиль, бегает. Дерг, дерг – пенис только болтается справа налево. Бегает, бегает. Положили его на землю. Стали пороть его колотушками из оленьего рога. Пробили всю задницу. Подняли, опять бегает на чикиле, глаза выкатываются, язык вывесился изо рта, достал до сосцов, хлопает взад и вперед по груди; сопит – хи, хи, хи – при каждом шаге плюет кровью. Загоняли до смерти на чикиле». Очень, наверное, им хотелось, чтобы так и было. Фантазировали. Со слов же пленного чукчи, видевшего все случившееся своими глазами, получается, что «прыгал; прыгнул раз через санки, двух парней убил, прыгнул обратно. Прыгнул другой раз, пять парней убил, обратно прыгнул. Стрел, копий не боялся совсем, твердую рубаху имел. На третий прыгнул, двух парней опять убил, а назад прыгнуть не успел; арканами взяли, повалили, стали душить; тут он сам открыл железный нагрудник и от копья кончилось дело». Это, думаю, похоже на правду, а скорее всего, правда и есть. «Тогда закричал Кивающий Головой, обрадовался, вперед велел бежать», и от полного уничтожения остатки отряда – пало уже 40 казаков и 11 коряков, а 13 казаков и 15 коряков от ран не могли держать оружие, – спасло лишь появление лыжников Катковского. Завидев на горизонте черные точки, чукчи, не вступая в бой, «ушли на побег», оставив на поле боя много более сотни своих, в том числе порубленного в куски Тавыля, но – победителями. Угоняя оленей и унося с собой несколько десятков ружей, пушку, знамя и, главное, голову ненавистного «Якуни». Гнаться за ними Катковский, несмотря на просьбы служилых, просто не смог: не хватало гужевых оленей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: