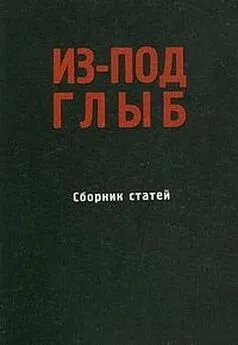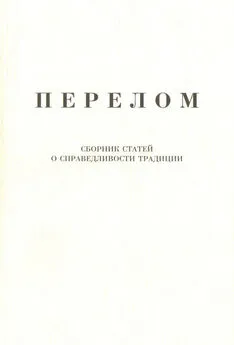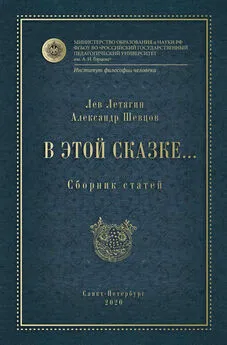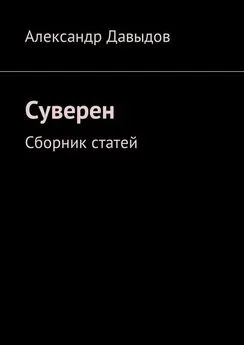Александр Щипков - Плаха. 1917–2017. Сборник статей о русской идентичности
- Название:Плаха. 1917–2017. Сборник статей о русской идентичности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пробел
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98604-506-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Щипков - Плаха. 1917–2017. Сборник статей о русской идентичности краткое содержание
Сборник «Плаха», как и сборник «Перелом», выпущенный теми же составителями в 2013 году, продолжает традицию дореволюционных «Вех». Этот жанр предполагает «политику вне политики» – откровенные размышления о судьбах страны, затрагивающие все болевые точки общественного сознания. Созвучные друг другу, но не во всём идейно схожие тексты сборника принадлежат авторам, которые остро переживают тяжёлое положение своего народа. Сборник создавался на фоне кровавых политических событий и запечатлел ответ интеллектуальной части русского общества на брошенный ей вызов. Шесть авторов посвятили свои статьи проблемам русской и советской идентичности, русско-украинским отношениям, банкротству неолиберальной идеологии, истории русской Катастрофы. Вопрос, который проходит лейтмотивом через весь сборник, – как не дать украсть у русского общества часть его истории?
Плаха. 1917–2017. Сборник статей о русской идентичности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И если социалистическая система предполагает примат социальных прав в обмен на политические (а социальными правами может пользоваться каждый), то либеральная система, напротив, предлагает политические права в обмен на социальные, называя это демократией. Но без принадлежности к правящим элитам, то есть меритократическому меньшинству, политические права для обывателя по сути бесполезны, их невозможно конвертировать в нечто осязаемое: выборные механизмы партийного представительства чаще всего действуют как фильтры.
Либеральный взгляд на мир предполагает, что всякая социальная и даже национальная сущность может быть сконструирована посредством политтехнологий (типичный пример – постмайданная Украина), и эту конструкцию в любой момент можно снова разобрать и собрать в угоду требованиям современного общества, «духу инноваций» и т. п. Разумеется, всё это не касается самой либеральной системы: её сущность сакральна и никакой деконструкции по идее не подлежит (так ли это в действительности – другой вопрос, ответом на который служит, в частности, наш текст).
Отсюда потребность в постоянном присвоении субъекту всё новых ложных идентичностей и потребностей, начиная с гендерных концепций и заканчивая неприязнью к традиционным религиям (отсюда карикатуры и спиленные кресты). При этом сконструированный аналог того или иного социального феномена нередко заменяет и вытесняет сам феномен (например, понятие «русский» заменяется на «россиянин», но содержание российской идентичности не артикулируется, между тем в англоязычном контексте для обоих понятий существует одно слово – russian).
На языке семиотики этот процесс называется отрывом знака от референта. Иногда в связи с такими подменами говорят о релятивизме и указывают на особую склонность либерального сознания к перформансам, PR-технологиям, «проектному мышлению», актуальному искусству и тотальному стёбу. В сущности, социальные практики либерализма в такой стране, как Россия, действительно очень трудно отделить от перформанса.
Правовая сегрегация и социальный остракизм
От всякой личности в либеральной системе требуется точное соответствие выбранной социальной нише, сформированной якобы «невидимой рукой рынка», а в действительности – принципами разделения труда в условиях диктата капитала. Эта система уже очень далека от классического капитализма и напоминает скорее денежный феодализм (известный философ Славой Жижек говорит даже о «капитализме без буржуазии»).
В такой ситуации развитие личности – вещь необязательная и, разумеется, должна быть ограничена «социальным консенсусом». Отсюда избирательное применение моральных и правовых норм и отлучение части «плохих» социальных игроков от игрового поля. Это означает, что целый ряд суверенных субъектов, подобно «православным» в реплике шведского министра, выпадает (drop out) из системы: они воспринимаются как «неправовые» субъекты, хотя и не делают ничего противозаконного в буквальном смысле слова. Но они вынесены за границу либерального морально-правового пространства.
Само существование этой границы означает сепарацию общества и очень напоминает старинные колониальные практики, что и позволяет теоретикам говорить о социальном неравенстве как «внутреннем колониализме».
Правовая сегрегация социальных субъектов проявляется в постоянном применении двойных стандартов. Так, возвращение ГДР в Германию не считается нарушением принципа послевоенной неизменности границ в Европе, а возвращение Крыма в Россию считается. За одними субъектами закреплено право на ирредентизм и неконституционную смену власти (Киев), за другими нет (Донецк). Право на самоопределение («незалежность») предусмотрено для Украины или, скажем, для Косово, но не для Новороссии. Во время войны в Югославии этнические чистки совершались всеми воюющими сторонами, но виновными были назначены сербы. Либеральная общественность критикует российский закон об НКО и «иностранных агентах», но как быть с тем, что закон этот практически списан с аналогичного американского закона, который тихо и без нареканий действует в США с 1936 года? И когда, например, глава шведского МИДа высказывает абсолютно ксенофобские взгляды в адрес православных верующих, никакой реакции со стороны правозащитных организаций не следует. Условием сохранения лояльности к системе является обязанность не замечать подобные проявления.
Двойные стандарты выражаются и в таких понятиях-оксюморонах, как «гуманитарные бомбардировки», «принуждение к миру». Каждый раз возникает очередное белое пятно в морально-правовом пространстве либерализма, но правила игры заранее спущены сверху и участники поставлены перед фактом.
Идеологи российского либерализма высоко ценят концепцию гражданского общества, но представителями гражданского общества они склонны считать именно себя. Сколь бы массовым и независимым ни было то или иное социальное явление, если оно не устраивает кураторов либеральных проектов, оно либо табуируется и не упоминается (обсуждение темы геноцида русских, сборник веховской традиции «Перелом», личность Игоря Стрелкова), либо подвергается скоординированному остракизму («Бессмертный полк», памятник святому князю Владимиру на Воробьёвых горах, программа «200 московских храмов»). А тех, кто это нежелательное явление представляет, объявляют «нерукопожатными», то есть неполноценными членами общества.
Доходит до того, что людям с «неправильными» взглядами рекомендуется не голосовать на выборах, как предлагала радиоведущая Юлия Латынина на «Эхе Москвы». А в одном из проектов резолюций Европарламента прямо сказано: «следует увеличить финансирование российских институтов гражданского общества, стоящих на демократических позициях». Демократических – с точки зрения самих европарламентариев. Остальная часть гражданского общества (что это именно она, европарламентарии не отрицают) не нужна и неинтересна: что не попало в рамки консенсуса, того просто нет.
Особенно ярко социальный остракизм в либеральном исполнении можно проследить на примере таких явлений, как поддержка возвращения Крыма или движение «Бессмертный полк», подвергшееся в либеральных СМИ обвинениям в проплаченности и влиянии «руки Кремля». Но как бы вы ни относились к российской власти и её политике, совершенно очевидно, что День Победы и освобождение Крыма являются для народа безусловными и неоспоримыми ценностями, которые от позиции власти нисколько не зависят. Правда, такая ситуация не устраивает либеральное комьюнити. И не столько из-за политической «неправильности», сколько из-за своей подлинности, непридуманности, неангажированности. А в эпоху конструктов не место эссенциалистскому мировосприятию. Всё должно быть сперва придумано и санкционировано «технологами оптимизации».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: