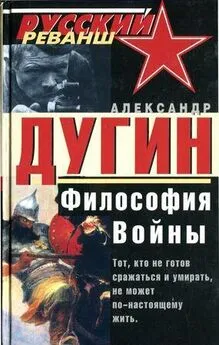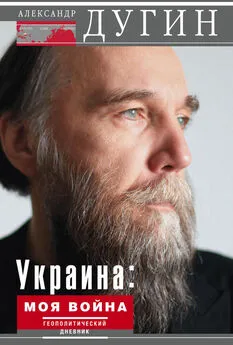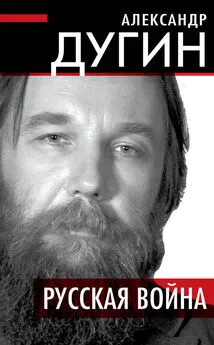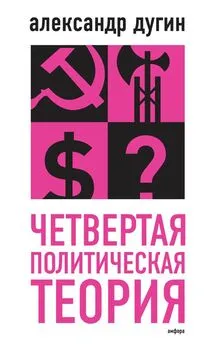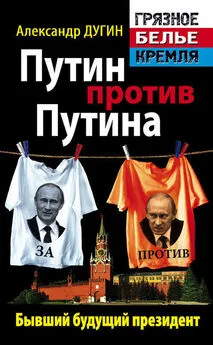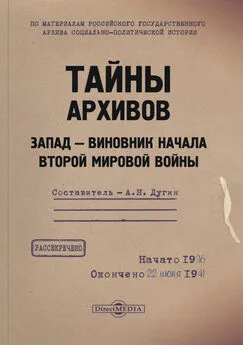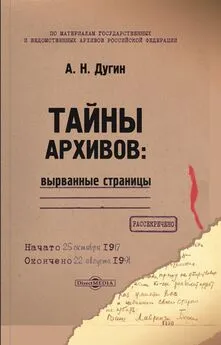Александр Дугин - Философия войны
- Название:Философия войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-699-07026-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Дугин - Философия войны краткое содержание
В книге известного российского философа, политолога и публициста А.Г.Дугина «Философия войны» рассказывается о феномене боя, ненависти, силового столкновения регулярных и партизанских частей, о происхождении и становлении воинской касты с древнейших времен до наших дней. Анализ изначальных мифов человеческой цивилизации соседствуете проектами ультрасовременной модернизации Вооруженных Сил России в неразрывном единстве духа и стиля. Особое внимание уделено проблеме терроризма. В книге дан очерк новой доктрины Вооруженных Сил Евразии, способных адекватно ответить на вызовы глобального мира и провокации атлантистских стратегов, приговоривших нашу Родину к расчленению и небытию.
Книга предназначена для широкого круга читателей, военных аналитиков, политологов, историков и специалистов военного дела.
Философия войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы ненавидим Америку, потому что мы ненавидим ее, и мы хотим, чтобы ее не было, мы хотим закрыть ее снова, убрать в дальний ящик, замкнуть засовами двух океанов.
Но если разобраться, мы ненавидим только ту Америку, которая вламывается к нам в дом, унижает наш народ, бомбит наших друзей сербов, отнимает наши доходы, навязывает себя из всех щелей, высокомерно учит нас жить, нагло и никого не слушая, атакует Ирак, присылает в качестве обязательных шаблоны своей пошлейшей культуры, свои несъедобные замороженные ножки... Другая Америка — одноэтажная и подземная, сонная, жирно-белая, с застрявшим между зубами полицейского хотдогом и отплясывающе чернокожая, с каньонами и гниющими автомобилями, хайвеями и полочкой Apocalypse Culture в книжных магазинах, с реднеками и клонированными сектантами, с черными вертолетами и синими чертями — нам безразлична.
ГЛАВА 12.
Евразийская система безопасности как геополитический императив
Существующая система координации в рамках Договора о коллективной безопасности в пределах СНГ недавно была преобразована в международную региональную организацию — Организацию Договора о коллективной безопасности. Для того чтобы ясно оценить значение этого решения, необходимо сказать несколько слов о том, что решению предшествовало.
С геополитической точки зрения с конца 80-х годов началась постепенная деконструкция стратегического потенциала сухопутного полюса, евразийского стратегического пространства, зафиксированного в то время в рамках Варшавского договора. Если в идеологическом смысле Варшавский договор воспринимался как союз стран с социалистической экономикой и марксистской идеологией, то в геополитическом ракурсе это была континентальная, сухопутная стратегическая конструкция, противостоящая атлантизму, который в то время отождествлялся со странами капиталистического типа. Заметим, что эта идеологическая модель в полной мере унаследовала еще более ранний — дореволюционный расклад сил в геополи-
тике, когда речь шла не о противоборстве идеологических лагерей, но о зонах влияниях крупных европейских государств. До СССР ту же евразийскую стратегическую функцию выполняла царская Россия.
Советский союз идеологически резко порвал с прошлым, с «царизмом», но геополитически унаследовал ту же самую стратегическую функцию. Законы геополитики оказались фундаментальнее законов идеологии.
Кризис марксизма в СССР и в странах Восточной Европы повлек за собой роспуск Варшавского договора. Никакого симметричного ответа со стороны стран НАТО, объединявших общества с капиталистической экономикой, не последовало. Более того, освободившееся стратегическое пространство постепенно заполнялось атлантистскими влияниями — страны Восточной Европы наперебой стали подавать заявки на вступление в НАТО. Геополитически это означает, что они стали отдаляться от евразийства и вовлекаться в орбиту атлантизма. Иначе и быть не могло, так как геополитические системы связаны между собой, как сообщающиеся сосуды, — там, где у евразийства убывает, прибывает у атлантизма, и наоборот.
На следующем этапе самоликвидации распался уже сам СССР. Политически и идеологически это выглядело достаточно радикально, но в стратегическом аспекте действовать столь же резко было просто невозможно. Поэтому система объединенных штабов стран СНГ сохранилась, как стратегическое наследие, как координационный центр общего руководства вооруженными силами новообразовавшихся стран. В принципе, как и само СНГ, эта военная структура мыслилась изначально как инструмент «постепенного и цивилизованного развода».
Однако с течением времени этот стратегический фактор, равно как и определенные экономические, таможенные и даже политические соображения, поставили на повестку дня именно геополитику. Оказалось, что стратегическое единство евразийских держав, которыми, без всякого сомнения, являются все страны—участницы СНГ, гораздо глубже, нежели политическое оформление истории советского периода или Российской империи. Общность интересов как общность судьбы (Гаспринский) стала все более осознаваться народами бывших братских республик и их политической и экономической элитой. Так, постепенно вместо инструмента «цивилизованного развода» СНГ стало мыслиться как стадия нового процесса, процесса евразийской интеграции. Надо отдать должное президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который первым заговорил о Евразийском союз». Кстати, в 1994 году аналогичный проект, только с другим названием выдвинул и президент Узбекистана Ислам Каримов, который, однако, позже ревниво отнесся к инициативе Назарбаева и принялся критиковать евразийство. Но дело не в названии, а в сути явления — геополитическое сознание лидеров стран СНГ в определенный момент — где-то в середине 90-х — под давлением объективного хода событий стало все более обращаться к необходимости переломить процесс стратегического распада евразийского пространства.
В период правления президента Ельцина инициатива новой волны евразийской стратегической интеграции в РФ особой поддержкой не пользовалась. Кремль не противодействовал ей открыто, но воспринимал довольно холодно. С одной стороны, этому способствовал экономический миф, активно насаждавшийся младореформаторами, будто бы любое сближение России со странами СНГ ей экономически невыгодно, а с другой — безоглядное равнение на Запад порождало в отношении бывших братских республик чувство скепсиса и раздражения. Национализм и западничество в этом вопросе сошлись. Кроме того, горячечный антикоммунизм любые интеграционные инициативы отождествлял с «коммунистическим реваншем».
Лишь к концу ельцинского периода, и особенно с приходом к власти Владимира Путина, ситуация изменилась. Получивший солидное геополитическое образование, опробированное на практике, новый президент не мог культивировать безответственные конъюнктурные мифы. Постепенно в РФ стало возрождаться стратегическое мышление, геополитическое видение мировой ситуации. С Путиным начался процесс поворота от «цивилизованного развода» к «новой интеграции».
Далее следуют важные конкретные шаги. Первый: закрепление «таможенного союза» пяти стран СНГ — России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Из истории известно, что реализация «таможенного союза» является первым экономическим шагом на пути дальнейшей политической интеграции. Первым теоретиком таможенного союза (Zollverein) был Фридрих Лист, немецкий экономист, заложивший концепцию объединения немецких государств, которая позже блистательно реализовалась на практике. По сходной модели проходило и становление Евросоюза, начавшееся именно с таможенных интеграционных мер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: