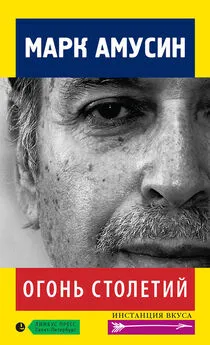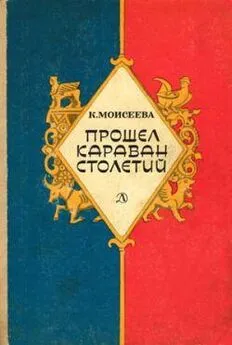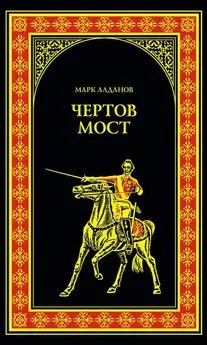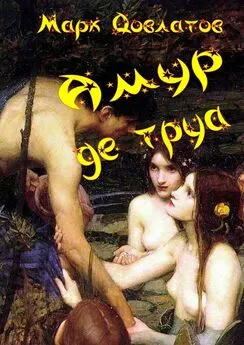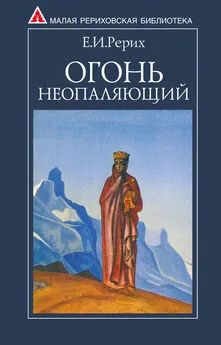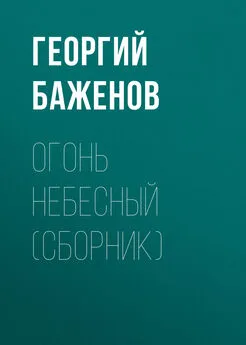Марк Амусин - Огонь столетий (сборник)
- Название:Огонь столетий (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0707-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Амусин - Огонь столетий (сборник) краткое содержание
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.
Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков. Статьи, образующие третью часть книги, посвящены сложному полуторавековому диалогу русской и иноязычных литератур (представленных такими именами, как Дж. Конрад и Макс Фриш, Лем и Кортасар).
Огонь столетий (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В ранних своих произведениях писатель имел обыкновение с самого начала эпатировать публику, пробуждая ее от дремы в вязких объятьях рутины или громким хлопком в ладоши, или невозмутимой тональностью протокольного отчета о невероятном. В рассказах того периода, в частности, вошедших в сборник «Зверинец», он любил разъедать монолитные стены бытия и врата восприятия кислотой абсурда, откровенного издевательства над нормальным и общепринятым, над «реализмом» («Письмо в Париж одной сеньорите», «Цефалея»).
Зрелый же Кортасар создал собственную литературную вселенную, многомерную и разноликую, со своими созвездиями, черными дырами, законами гравитации и аннигиляции. Главный конструктивный принцип этой вселенной – усложнение. Главный способ формообразования в ней и одновременно главный творческий прием Кортасара – переход, превращение. В его произведениях происходят обрывы и инверсии причинных связей, обмены идентичностями, всяческое оборотничество: людей, ситуаций, отношений. Превращение наглядно демонстрирует, что под коркой застывшей обыденности течет и кипит лава потенциально возможного, представимого, хотя и не обретшего до сих пор предметную определенность. Запечатлеть превращение в слове, изобразить его – значит наполнить плотью, пусть на время, мятущиеся тени возможного, расширить человеческую – свою? – власть над многомерным и многодонным миром.
Как это делается? Прежде всего – атмосфера, поначалу обманчиво реалистическая, психологически уютная, располагающая читателя к доверию. Но очень скоро она насыщается элементарными частицами «иного», зарядами таинственного или невероятного. Часто от этих допущений исходит смутный аромат опасности – но ведь всякий разрыв с обыденностью несет в себе угрозу.
Во многих рассказах Кортасара (говорим пока о них) ощутим – пусть хорошо замаскированный – «поворот винта», момент трансформации, когда в хронотоп обыденности вдвигается клин чудесного: короткое замыкание между разными эпохами, материализация беспутного алогизма сна, скачок в иное бытийное состояние. Магниевая вспышка магии новым светом освещает мир и окрестности.
Вот человек, пристально вглядывающийся в загадочных обитателей аквариума – аксолотлей, вдруг сам оборачивается одним из этих земноводных, и уже с той стороны созерцает непроницаемую стену между бытием и инобытием («Аксолотль»). Вот мотоциклист, очутившийся в больнице после аварии, перевоплощается в бреду в индейца, которому предназначена роль ритуальной жертвы. В промежутках кошмара он пытается вернуться в «здесь и сейчас», с больничным комфортом, бульоном и потоками световой рекламы за окном, но постепенно его затягивает реальность более высокого порядка – древняя реальность мифа и смерти («Ночью на спине лицом кверху»).
Герой Кортасара легко переносится из Аргентины 30-х годов, с унылой жарой, жениховством, биржей, – в галереи парижских улочек и кабачков эпохи Второй империи, где девушки смешливы, пугливы и щедры на любовь, а ночные похождения приперчены страхом перед бродящим поблизости маньяком-убийцей («Другое небо»)…
Или – скучающая буржуазка, путешественница, бездарно и безотрадно растрачивающая жизнь, вдруг увидит в провинциальном музее картину, словно ожидающую ее, взывающую к ней, – и войдет в нарисованный интерьер, сольется с ним, приобщившись к законченности и значительности артефакта («Конец этапа»).
Есть и более головокружительные техники превращения. Например, в рассказе «Лента Мебиуса» банально-жестокая история, место которой на страницах судебной хроники, оборачивается запредельным экспериментом-переживанием. Девушка, которую изнасиловал и нечаянно убил полублаженный-полубродяга, в своем посмертном бытии, претерпевая сложные метафизические трансформации, сохраняет некое личностное ядро – и это благодаря возникшей парадоксальной «эмпатии» к ее невольному палачу. Самоубийство последнего, упреждающее нож гильотины, оставляет тень надежды на встречу преображенных сущностей в бесконечности…
Но самую лаконичную и изощренную версию превращения Кортасар демонстрирует в рассказе «Непрерывность парков». Там изящным скользящим изгибом плоскости повествования (вот уж воистину «лента Мебиуса»!) он совмещает сферы сущего и воображаемого. Персонаж книги, которую читает герой рассказа, вдруг проникает в реальность (самого рассказа, конечно же) и закалывает кинжалом читателя – того, в чьем восприятии он только и существует.
Здесь автор прикасается к магическим возможностям собственно литературного нарратива, которые могут соперничать с порождениями самой отчаянной фантазии. Перед нами показательное упражнение на тему: композиция текста как средство обогащения, возгонки реальности…
Однако писатель, разумеется, не хотел ограничиваться роскошными пирами воображения, сеансами самодовлеющей литературной магии. Для него была важна – и чем дальше, тем важнее – ситуация человека как субъекта изменений и превращений. В произведениях Кортасара внешние события тесно, хоть и сложным образом, связаны с ментальной реальностью, с личностным выбором, с модусами существования и поведения героев.
В небольшой повести «Преследователь» идет подспудный и непрерывный поединок между героем-рассказчиком, парижским джазовым критиком, и «объектом» его анализа, гениальным и беспутным саксофонистом Джонни (прототип – легендарный Чарли Паркер). В этой странной борьбе (рассказчик высоко ценит Джонни и житейски заботится о его благополучии) выявляется родовая, тканевая несовместимость двух человеческих типов. Критик целиком принадлежит здешней реальности, он по сю сторону звуков и мелодий, он – «потребитель», пусть весьма квалифицированный и даже бескорыстный. Джонни – творец, спонтанный и неприкаянный, обреченный на то, чтобы вечно пробивать головой стены и пересекать границы, обдирая бока. Его дар, стимулируемый алкоголем и наркотиками, уносит его к новым вершинам, в конечном счете саморазрушительным.
Вот рассказ «Инструкции для Джона Хауэлла». Зритель, уютно скучающий в театральном зале на банальном представлении – «посторонний», – внезапно вырван из этого статуса наблюдателя. Его настойчиво приглашают (кто, почему – неизвестно) стать участником действия, разворачивающегося на сцене. Уже скачок, уже нарушение привычного порядка. Но ситуация тут же закручивается новым витком спирали. Герою «диктуют» его роль – и он начинает догадываться, что речь идет не об игре, а о заговоре, о гибели всерьез для одной из участниц спектакля. Подчиниться, стать одним из исполнителей непонятного плана – или возмутиться?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: