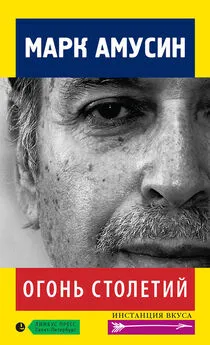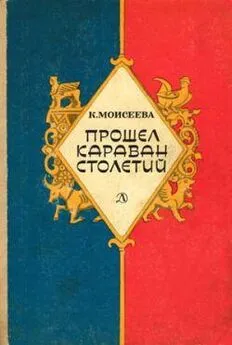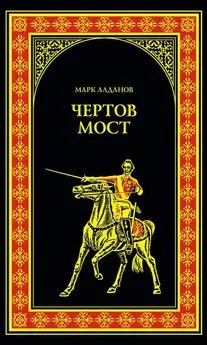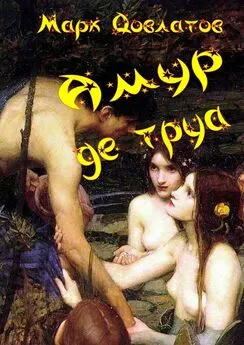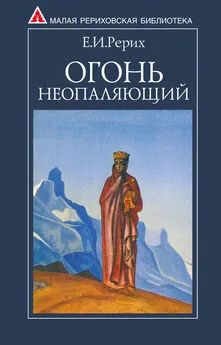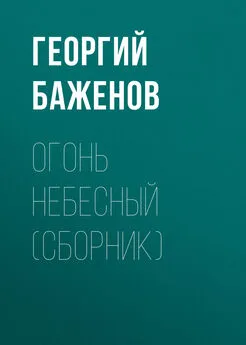Марк Амусин - Огонь столетий (сборник)
- Название:Огонь столетий (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0707-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Амусин - Огонь столетий (сборник) краткое содержание
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.
Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков. Статьи, образующие третью часть книги, посвящены сложному полуторавековому диалогу русской и иноязычных литератур (представленных такими именами, как Дж. Конрад и Макс Фриш, Лем и Кортасар).
Огонь столетий (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Возникает ситуация экзистенциального выбора. Герой, руководствуясь безотчетным импульсом, решает проявить непокорство, пойти против навязанных ему правил. Тем самым он вступает в зону свободы и смертельного риска…
А другой персонаж писателя, опять же по своей воле, решает: он не может сблизиться с понравившейся ему женщиной, если не будет выполнен сложный предварительный ритуал, предполагающий цепочку маловероятных совпадений. Он подчиняет свою жизнь жестокому и абсурдному эксперименту. Мало кто был бы способен наполнить умозрительную схематику этого рассказа («Из блокнота, найденного в кармане») столь подлинной человеческой горечью, отчаянием от неспособности отринуть «правила игры» собственного изобретения.
Понятие игры – центральное в творческом мире Кортасара. Игра у него – продолжение реальности другими, очень разными средствами. Есть игры грустные и жестокие (как в отмеченном выше рассказе или в «Ночной школе») – и игры раскрепощающие, поднимающие над ситуацией, даже безнадежной. То и другое принадлежит целому жизни и порождающей силе сознания/ воображения. В рассказе «Сатарса» у командира повстанческого отряда странное хобби: он сочиняет палиндромы: «Голод долог», «Событие – и ты бос». Сугубо отвлеченное это занятие становится символом неподвластности человека обстоятельствам. Но и чем-то большим. Блуждание в кольце слов, борьба с формальными ограничениями оборачиваются семантическими прорывами. Приключения языка накладываются на человеческую драму, сочетания и столкновения слогов высекают новые смыслы, интеллектуальная сосредоточенность позволяет легче смотреть в глаза смерти.
Другой существенный мотив Кортасара – детство как бытийное состояние. Дети с их обостренным и раскованным восприятием жизни, с их фантазиями и фобиями, с их уязвимостью и наивным визионерством противостоят скучной и фальшивой упорядоченности мира взрослых. Кроме того, детство здесь – лакмусовая бумажка, демонстрирующая несправедливость, фундаментальную дефектность этого мира. Символ плачущего или гибнущего ребенка переходит из одного произведения писателя в другое. Впрочем, тема трактуется без излишней сентиментальности и «теплоты», без выжимания слезы. Детство у Кортасара близко к первоистокам жизни, где не действительны расхожие конвенции морали и цивилизации.
А что сказать о животных и насекомых, которые теснятся на страницах его книг: о крысах и тиграх, кошках и лошадях, канарейках и улитках, муравьях и кроликах? Попадаются тут, кстати, и мифические существа: единороги, драконы, василиски. Откуда и к чему весь этот зверинец? Фауна у Кортасара, урбаниста и антропоцентриста, указывает на стихийно-природное начало бытия, не прирученное, спонтанное, опасное. Громадный, страшный конь, являющийся по ночам героям рассказа «Лето», мужу и жене, давно утратившим подлинность чувств, становится символом возмездия жизни за неспособность к любви, за взаимный утешительный обман.
И, конечно, важнейший момент кортасаровского мироощущения – постоянный и веселый вызов здравому смыслу, ставка на юмор и карнавал, все переворачивающий вверх дном. Юмор у Кортасара многолик. Иногда он рядится в одежды пародийной серьезности – и тогда рождаются многочисленные «инструкции» по поведению в обычнейших ситуациях, по отправлению расхожих житейских обрядов. В других случаях, например, в книге «Истории о хронопах и фамах», автор выдумывает, извлекает из небытия новые существа (или сущности?) абсолютно ирреальной природы («хронопы, эти зеленые, влажные и щетинистые фитюльки…»). Правда, эти существа все же соотносятся опосредованно с социально-психологическими видами человеческой «фауны», и за их комическими приключения ми и столкновениями следишь не только с абсурдистским весельем, но и с сочувствием.
А еще герои писателя зачастую видят свое назначение/развлечение в неуклонном и обстоятельном разыгрывании друг друга и окружающих, что превращает повседневную жизнь в череду хеппенингов, провокаций, practical jokes.
Со временем Кортасар все больше сосредоточивался на том, что может противостоять энтропии и «духу тяжести» в пространстве человеческих отношений, в сфере социального. В более поздних его произведениях воля к расширению горизонтов и обновлению повествовательных форм дополняется пафосом поиска солидарности. Писатель стремится нащупать точки динамического равновесия между максимальной самореализацией индивида – и его способностью контактировать с «другими». Кортасар строит разнообразные конфигурации человеческого взаимодействия – группы, ансамбли, «созвездия», – тут же анализирует их, испытывает на прочность, продуктивность, эстетическую пригодность.
В повести «Южное шоссе» на расхожем житейском примере грандиозной транспортной пробки тонко прослеживается постепенное наращивание «паутины» взаимоотношений между собратьями по несчастью, по ситуации, в которой людям волей-неволей приходится преодолевать отчуждение, понимать и «принимать» друг друга. Но ситуация разряжается – и сетка связей, взаимопонимания и взаимопомощи разрывается.
В «Выигрышах» пестрое сообщество случайных попутчиков по лотерейному круизу на океанском лайнере раскалывается на два лагеря по простому критерию «конформизм – бунтарство». Большинство – всем довольно и за бесплатный комфорт с компотом готово мириться с некоторыми, пусть и абсурдными, ограничениями свободы. Меньшинство любознательных и упрямых отказывается подчиниться диктуемым сверху правилам поведения. Эта кучка очень разных во всем остальном людей совместно пускается на поиски приключений и истины. Попытка разгадать некрасивую тайну лайнера заканчивается, естественно, насилием и кровью.
В центральном – самом многословном и, может быть, наименее удачном – своем романе «Игра в классики» Кортасар, среди прочего, изображает некое добровольное сообщество, самоучредившееся в Париже, – Клуб Змеи. Члены его, французы и экспатрианты, музыканты, художники и философы, своим эксцентричным образом жизни и бесконечными диалектическими прениями стремятся приблизиться к полносущностному бытию, которое обозначается метафорически: то Аркадия, потерянный рай, тысячелетнее царство, то центр, ось, мандала. Но путь их и метод – апофатический. Эти люди, и прежде всего главный герой романа Оливейра, с педантичной одержимостью занимаются отрицанием, разрушением всяких привычных смыслов, способов поведения, ориентиров и отношений: «…надо распахнуть настежь окна и выбросить все на улицу, но перво-наперво надо выбросить само окно и нас заодно с ним. Или погибнуть, или выскочить отсюда опрометью».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: