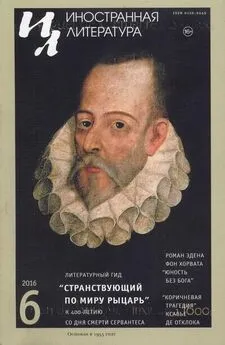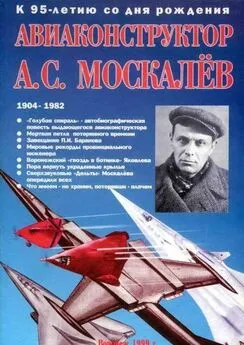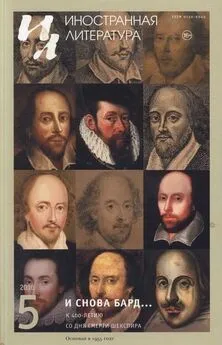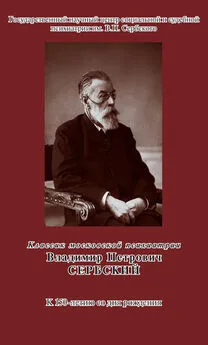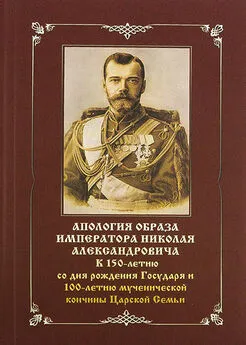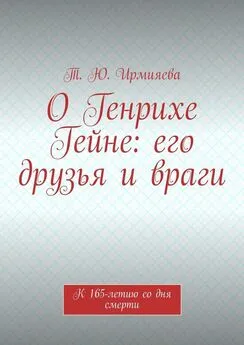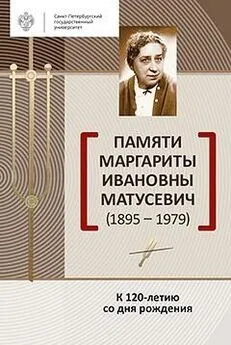Ирина Ершова - Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса
- Название:Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Ершова - Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса краткое содержание
Далее — Литературный гид «Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса».
После краткого, но содержательного вступления литературоведа и переводчицы Ирины Ершовой «Пути славы хитроумного идальго» — пять писем самого Сервантеса в переводе Маргариты Смирновой, Екатерины Трубиной и Н. М. Любимова. «При всей своей скудости, — говорится в заметке И. Ершовой, — этот эпистолярий в полной мере демонстрирует обе составляющие постоянных забот писателя на протяжении всей его жизни — литературное творчество и заработки».
Затем — «Завещание Дон Кихота», стихи другого классика испанской литературы Франсиско де Кеведо (1580–1645) в переводе М. Корнеева.
Романтическая миниатюра известного представителя испаноамериканского модернизма, никарагуанского писателя и дипломата Рубена Дарио (1867–1916) с красноречивыми инициалами «Д. К.» в качестве названия. Перевод Маргариты Смирновой.
И далее, как сказано в уже цитировавшемся вступлении Ирины Ершовой: «Разные по жанру — речь на вручении премии и речь к юбилею (Антонио Мачадо и Алехо Карпьентер), исследования о романе и эпохе (Гомес де ла Серна, Сальвадор Мадарьяга, Хулиан Мариас, Марио Варгас Льоса) — предлагаемые статьи, эссе и фрагменты книг едины своей побудительной причиной: понять и осмыслить величие и современность Сервантеса для себя, для Испании, для европейской культуры и литературы, для современной истории романа».
Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но на протяжении всей своей жизни Сервантес осознает, кто он. Стоит ухватиться за это ощущение, на мой взгляд, уникальное. По сути, речь идет о том, что Сервантес знает, кем хочет быть, но не уверен, станет ли им. Такого рода колебание, уверенность и сомнение одновременно придают личности Сервантеса особую человечность и драматизм. Неуверенность влияет на воплощение: он знает, кем хочет быть, но не уверен, таков ли он на самом деле, сможет ли и вправду стать таковым. Вспомните то трогательное место в финале книги, где Дон Кихот рассуждает о святых, завоевывающих славу, и говорит: «я не знаю, что суждено завоевать мне». Дон Кихот отдал все свои силы и не знает, что завоюет в итоге. Нечто похожее происходит и с Сервантесом — столь уверен в том, кем он хочет стать, и в сомнениях об уже достигнутом.
Сервантес ищет себя в течение всей жизни, пробиваясь сквозь обстоятельства, которые зачастую сильно ему мешают; другими словами, он пробует. Это человек, беспрестанно пробующий, его взгляд устремлен на цели, которые ему известны, но которые то и дело ускользают от него. Полагаю, с этой точки зрения можно было бы понять то ужасающее смятение, что вызывает у Сервантеса публикация «Дон Кихота» Авельянеды. Очень редко задумываешься над тем, как влияют на различных людей происходящие с ними внешние события.
Не так давно я прокомментировал, какое огромное влияние, к моему удивлению, оказал ряд разочарований и неудач на Унамуно. Он несколько раз хочет стать профессором философии или схожих дисциплин, и ему это не удается; когда президент Апелляционной комиссии, объясняя, почему отдал предпочтение человеку, заведомо менее достойному, не сравнимому с Унамуно, сказал, что у того восемь детей, Унамуно ответил: «Я собираюсь завести столько же». Он собирался жениться на Конче Лисаррага и завести детей — так и произошло, у него было именно восемь детей. Против восьмерых имеющихся детей своего оппонента он выставил «проект» восьми будущих.
Глубочайшее воздействие оказало на него и то, что ему не дали премию Испанской Королевской академии за исследование о «Поэме о моем Сиде», — это заставляет его сменить призвание и отречься от филологии; как и в случае с местом профессора, когда неудача увела его от профессиональных занятий философией, хотя он никогда не переставал размышлять о ней.
И, наконец, нельзя недооценивать последствий смещения его с должности ректора Саламанкского университета в 1914 году по решению министра Общественного образования Франсиско Бергамина. Вся его жизнь, политическая, интеллектуальная и даже личная, с тех пор была отмечена этим разочарованием. Можно задаться вопросом: почему человеку, непрестанно размышляющему о смерти и бессмертии, столь важны были такие вещи, как неудача в борьбе за пост, неполучение премии или смещение с ректорства. Вот пример подлинной человеческой коллизии — вызов герменевтике, истолкованию жизни.
Воздействие на Сервантеса публикации «Кихота» Авельянеды всегда меня удивляет. Вторая часть «Дон Кихота» изобилует отсылками к этому изданию и его неизвестному автору, столь удачно спрятавшемуся, что до сих пор непонятно, кто же им был. Последняя гипотеза, высказанная Мартином Рикером, согласно которой им был Херонимо де Пасамонте [69] Херонимо де Пасамонте (1553 — ок. 1605) — военный, предположительно монах-цистерцианец, испанский писатель Золотого века, автор биографического сочинения «Жизнь и труды Херонимо де Пасамонте». Ряд исследователей видят в нем Авельянеду, автора подложного «Дон Кихота».
, отождествляемый с Хинесом де Пасамонте, или Хинесильо де Парапилльей, или Маэсе Педро из сервантесовского романа, весьма основательна, однако не убеждает окончательно, и непонятно, какой версии доверять.
Самое главное то, как вымышленный «Кихот» Авельянеды воздействует на истинного автора. Последний мог бы высказаться вволю хотя бы раз, сказать все, что думает, о так называемом Авельянеде и забыть о нем, но он снова и снова возвращается к этой теме, ведь тот вмешивается в его проект. Сервантес занят написанием второй части; несомненно, появление другой книги ускорило его работу и ее издание. Он чувствует, что Авельянеда предпринял попытку похитить его «я», его замысел Дон Кихота, и поэтому он убивает героя в конце романа, чтобы никто не осмелился возродить его снова вместе с подложными приключениями.
Если пытаться понять, как чувствует себя Сервантес, оглядываясь на свою собственную жизнь, когда он пересматривает ее или пытается властвовать над ней, мы могли бы сказать, что его позиция — не жалеть ни о чем. Суть позиции Сервантеса можно было бы выразить этой формулой: никогда ни о чем не жалеть. Он примиряет прошедшую жизнь со своими планами. Есть некоторые моменты его жизни, когда он признает самого себя, например, при Лепанто. Он был там, вел себя сообразно тому, кем был; оставшиеся раны, частичная недееспособность — они стали ощутимым доказательством его участия в битве при Лепанто. Эти печальные последствия — свидетельства того, что произошло, того, что он делал тогда; его раны стоили боли, ибо при Лепанто он действовал даже сверх своих сил. Вспомните, ведь он не должен был сражаться, он был болен и лежал в жару и, несмотря на это, захотел биться на передовой, в шлюпке галеры. В тот момент проект совпадает с его воплощением.
Но история не заканчивается в Лепанто, он стремится достичь и других целей. Когда он говорит:
Увы! Я сладкоустом не родился!
Чтоб изощрить мой грубый, тяжкий слог,
Я на веку немало потрудился,
Но стать поэтом не сподобил бог [70] Мигель де Сервантес Сааведра. Путешествие на Парнас // Собрание сочинений в 5-ти тт. — Т. 4. — М., 1961. Перевод В. Левика.
,
то прекрасно осознает, что есть две разные вещи: талант и то, что с ним можно сделать. По его словам, Бог не дал ему изящества для поэзии, то есть он не обладал поэтическим даром, но, несомненно, он был одарен гораздо больше, чем обычно считается и чем полагал он сам, и в любом случае больше, чем признается за ним. Сервантес берет себе дар, хотя «и на веку немало потрудился», другими словами, он никогда не отказывается от притязаний, от поэтического призвания, от ощущения его истинности. Единственное, что ему остается, — это трудиться и не жалеть усилий. Он не властен над своими способностями, они лишь дар, дарование, нечто независящее от нас самих. А вот что действительно в нашей власти — как мы этим даром распорядимся: вспомните притчу о талантах, которой, по странности, уделяется весьма мало внимания.
Впрочем есть одна деталь, на которой Сервантес настаивает с необычайным постоянством и упорством: когда он провозглашает себя «редкостным выдумщиком». «Входи, редкостный выдумщик», обращаются к нему в «Путешествии на Парнас». И Сервантес, говорящий о себе:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: