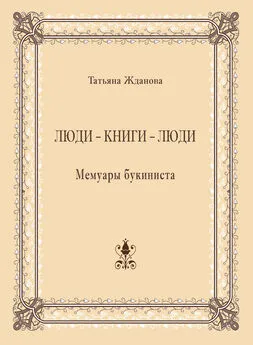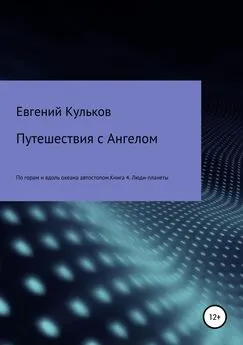Лев Данилкин - Клудж. Книги. Люди. Путешествия
- Название:Клудж. Книги. Люди. Путешествия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентРИПОЛ15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052
- Год:2016
- Город:М
- ISBN:978-5-386-09242-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Данилкин - Клудж. Книги. Люди. Путешествия краткое содержание
Нет такой книги и такого писателя, о которых не написал бы Лев Данилкин, ярчайший книжный критик «Афиши» и легенда двухтысячных! Ради этой книги объединились писатели и медийные личности, которые не могли бы объединиться никогда: Джулиан Барнс, Дмитрий Быков, Леонид Парфенов, Мишель Фейбер, Стиг Ларссон, а также… Джеймс Бонд!
Клудж. Книги. Люди. Путешествия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Апокалиптический сценарий выглядел убедительно; особенно впечатляющей была наглядно продемонстрированная связь между филологическим и экономическим кризисами.
В последнее время филология – казалось бы, маргинализованная область науки, на протяжении многих лет поставлявшая кинорежиссерам-комедиографам персонажей в амплуа симпатичного лопуха (гайдаевский Шурик, данелиевский Бузыкин, казаковский Хоботов), – обрела совершенно иной, непропорциональный ее очевидным заслугам вес в обществе. Именно филологи – анализируя списки запросов Google – объясняют, как все устроено на самом деле; филологи – составляя списки «слов года» – дают футурологические прогнозы; они становятся видными журналистами, то есть представляют четвертую власть; филологи – опосредованно, распоряжаясь литературными премиями (совокупный бюджет которых в России явно превышает бюджет среднего африканского государства), – задают обществу нравственную планку; мы оказались в мире, которым дирижируют филологи. В сущности, это даже не гипербола – они правда правят миром: достаточно вспомнить о бэкграунде председателя совета директоров Роснефти. Какой там эскапизм, какая внутренняя эмиграция. Собственно, в обществе, где слова сакральны, где еще в девяностые годы (по слухам) единственный человек, чьи письма-доклады никогда не распечатывались перед тем, как лечь на стол Ельцина, был эксперт по древнерусской литературе академик Д. С. Лихачев, – ничего удивительного. У кого монополия на «правильный» язык – тот и распоряжается средствами материального производства.
Подъем статуса филологии соблазнительно связать с упадком статуса экономики: кризис 2008 показал, что на экономистов рассчитывать нельзя – их рейтинги неточны, прогнозы не сбываются; кризис они проспали, а Нассим Николас Талеб доказал, что единственный способ, с помощью которого они прогнозируют вероятность наступления того или иного события, – это частота его появления в прошлом; учитывая то, что «черные лебеди» продолжают вылетать один за другим, вся экономическая наука, выяснилось, есть не более чем шарлатанство. Филологи – новая каста жрецов – напротив, предложили более четкий критерий анализа происходящего. Язык – слова, а не цифры! – есть самое точное зеркало общества. Человек есть то, какие тексты (в широком смысле) он производит: и поди поспорь – в этом есть логика. И раз так, филология превращается в способ точного измерения нравственного состояния общества – и контроля за обществом. Филологи – и если бы только собственно ученые филологи, теперь, по сути, все стали филологами – всё сводят к языку; они верят в то, что человеческая деятельность может быть расшифрована с помощью языка, – так же, как марксисты ранее были уверены, что человек лучше всего раскрывается в своих экономических поступках. Это своего рода филологический детерминизм: какие у людей слова, такие и сами люди. Отсюда получается, что язык – главная движущая сила прогресса: достаточно назвать милицию «полицией», Дальний Восток – Тихоокеанской Россий, и дальше можете откинуться в кресле. Выбор правильного слова есть решение проблемы.
Бог ты мой, бог ты мой: а что же делать, если они и в самом деле исчезнут? Все, до единого? Только не это, пожалуйста. Все что угодно – но только не это.
Платформа фирн
Через 12 минут чашки на столе Мишеля Фейбера подпрыгнут, а ваза с нарциссами завалится набок: к платформе прибудет вечерний поезд из Инвернесса.
Не будем вдаваться в подробное описание причин, однако факт остается фактом: преуспевающий писатель Мишель Фейбер, человек, с которого началась мода на викторианские ретророманы, автор нескольких хитов, в том числе «Багрового лепестка и белого», международного бестселлера, который в 2011 году даже экранизировали, проживает в довольно неприглядном здании на платформе железной дороги, связывающей между собой непопулярные среди туристов северошотландские города Инвернесс и Инвершин. Проще всего было бы сказать – живет с женой в вокзале (и правда ведь – в гостиной явно была касса, в спальне – небольшой зал ожидания), но хотелось бы избежать каких-либо комических обертонов; вот уж что в жизни М. Фейбера отсутствует напрочь, так это комедия.
– Да, мы эксцентрики, – охотно подтверждает Фейбер, про которого местные газеты пишут, что лохнесское чудовище по сравнению с ним кажется экстравертом; однако даже манера укладываться спать в десяти сантиметрах от вращающихся на приличной скорости колес локомотива Шотландских железных дорог вовсе не самая эксцентричная черта его характера. Кроме характера есть еще и биография: работа медбратом в мельбурнской больнице, уборка чужих квартир, опыт проживания в одном помещении с трансвеститом, чрезвычайно непростые отношения с собственными родственниками и родственниками жены – поверьте, вам лучше не знать всего. Приступы депрессии длятся месяцы и годы; писатель сутками сидит у себя в кабинете, листает комиксы и слушает не имеющие начала и конца инструментальные сочинения каких-то финнов, лупящих по стиральным доскам под электронные наигрыши.
Фейбер, впрочем, дает понять, что было бы неправильно делать какие-то далеко идущие выводы о тайном смысле его текстов на основании наблюдений за его бытом или знакомства с его биографией.
– Я ужасно неавтобиографический писатель. У меня есть опыт, который многие сочли бы интересным для литературы. Мои родители были людьми из рабочего класса: мать работала на фабрике, отец – в лавке, торгующей запчастями. У них были другие дети, которых они бросили в Голландии, – поступили очень дурно по отношению к ним, а меня привезли в Австралию и воспитывали как единственного ребенка. Многие именно об этом написали бы свой роман, сосредоточились бы на этой центральной травме. Я никогда не сделаю ничего подобного. Мне неинтересно писать о себе и своем прошлом, о том, как я живу в Шотландии, о работах, на которых я работал 25 лет назад в Мельбурне. Я ни разу не написал о своем неудачном первом браке – хотя обычно именно о таких вещах пишут нормальные писатели, это идеальное поле для создания истории. Но только не для меня. Наоборот, я нарочно выбираю персонажей таким образом, чтобы они были чужими мне – по национальности, полу или исторической эпохе. А затем задача состоит в том, чтобы наполнить их подлинными эмоциями, которые уже действительно мои личные. Даже если мои книги сложны – на базовом уровне это просто притчи, современные мифы. Мне самому нравится, когда я читаю какие-то старые истории, сказки братьев Гримм, где писатель как таковой перестает существовать. Автор – тот, кто помогает истории родиться на свет, но история отменяет автора. Знаете, в современном мире информация слишком доступна. Читателей сейчас буквально соблазняют воспринимать роман как такую автобиографическую головоломку, которую они должны решить, правильно поняв причины, – что значат такие-то детали этой истории, как они намекают на нынешнее состояние брака автора и на то, что он пережил, когда был маленьким ребенком. Получается, что у романа как будто вовсе нет собственной ценности; он превращается в викторину – сколько ты можешь выяснить о личности того, кто его создал. Если меня будут помнить, то я хочу, чтобы меня помнили не как человека, а за те истории, которые я рассказывал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: