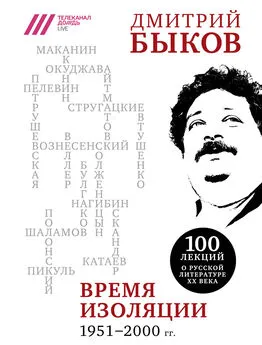Дмитрий Быков - Карманный оракул (сборник)
- Название:Карманный оракул (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2017
- Город:СПб
- ISBN:978-5-8370-0803-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Карманный оракул (сборник) краткое содержание
В новую книгу Дмитрия Быкова вошли статьи, которые на протяжении последних лет были опубликованы им в различных периодических изданиях («Профиль», «Компания», «Собеседник»). Большинство статей сопровождает авторский комментарий – взгляд из сегодняшнего дня. Сборник составлен как корпус исторических прогнозов – какие-то предсказания сбылись, где-то автор ошибся, где-то только начинают очерчиваться тенденции предреченных процессов, а в некоторых случаях возможность оценить пророческие способности автора отсрочена на неопределенное время.
Карманный оракул (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Боюсь, что в своих поисках «положительно прекрасного человека» он этого человека просмотрел – почему Мышкин и вышел у него безнадежно больным, а работа над книгой шла с таким трудом; он просмотрел ту русскую святость, которую заслонила ему нечаевская бесовщина. И когда Тургенев, нравственно-зоркий, исключительно чуткий, в «Пороге» назвал революционерку святой, Достоевский эту-то самую святость и не заметил, хотя среди народовольцев, казалось, были его герои. Ан нет – ничего подобного: Верховенского он видел, Ставрогина сумел выдумать и даже сделать убедительным, но Желябова бы ему нипочем не изобразить. Обязательно искал бы дурную тайную страстишку. Везде видеть бесов – далеко не признак святости: это, как мы знаем по одному бесогону-современнику, как раз и есть самая подлинная бесовщина. По Достоевскому, святость начинается с падения – и немыслима без падения: «Станьте солнцем – все вас и увидят», – говорит явно автопортретный Порфирий. Но для этого солнце должно очень уж глубоко закатиться.
«Я поконченный человек», – говорит о себе Порфирий Петрович, автопортретный даже внешне: желтое лицо, беспрерывные пахитоски, жидкий блеск глаз… Очень может быть, что это правда; что он, с молодости полагавший себя гением и пророком, действительно в иные минуты был тем, кем представлял себя при объяснении с невестой, Анной Сниткиной: старым, больным, «поконченным» человеком. То есть в конечном итоге – сломанным, сколь ни мало идет к нему это слово. Подполье было для него реальностью, а святость – нет; в реакцию он верил свято, а в революцию – никогда. XX век, век мерзкий, подтвердил эту правду о человеке – и потому Достоевский стал главным писателем XX века; но не кончилась же история на этом поганом столетии! Толстой смотрел дальше и – не глубже, может быть, но выше: потому он сумел увидеть и Симонсона («Воскресение»), и Светлогуба («Божеское и человеческое»). Толстого, правда, никто не расстреливал на Семеновском плацу; но, может, то, что сделали с Достоевским, было все-таки убийством, а не спасением? Может, если бы не бездна, в которую он упал, не было бы и его веры в необходимость государства-церкви и дружбы с Победоносцевым? Впрочем, гений есть гений: думаю, что именно Победоносцева он и вывел в образе Великого инквизитора. Но Христос, который целует этого инквизитора… нет, как хотите, а это Иван уже сходил с ума.
Никто не отрицает его гениальности, но и гениальность бывает разная; есть гении зла, демоны болезни, пролагатели дорог, ведущих в адские тупики. Подполье ведь и есть, в сущности, реакция человека с великими задатками на уродливую, больную реальность, из которой нет выхода вверх – только вниз. Ведь что такое, в сущности, подполье, кто такой этот подпольный тип, открытие которого весь мир единогласно признает за ним? Это тип по преимуществу русский, который во всем мире бывает, но только в России расцветает и доминирует; именно на нем основано представление о загадочной русской душе, которая отражает русские падения, но отнюдь не русские взлеты. Это душа прежде всего невоспитанная, привыкшая собою любоваться, вместо того чтобы задуматься о причинах собственной подпольности. Это душа, привыкшая извлекать сок из своего унижения, расчесывать свои язвы – ибо в сумраке русского буквального подполья они неизлечимы; душа, которая самую ненормальность своего положения склонна объявить особостью, исключительностью, небывалой глубиной (хотя это именно глубина падения, а не мысли, допустим). Эта душа больна – и потому неспособна ни к какой созидательной деятельности, да и откуда бы взяться этой созидательной деятельности там, где умеют только пугать и бояться, мучиться и мучить? Дисциплинировать такую душу, содержать ее в порядке в самом деле способно, кажется, только Государство-Церковь – но не оно ли и порождает ее, загоняя тем самым историю в замкнутый круг?
Христианства эта душа не знает. За христианство она принимает юродство, униженность, даже и рабство. «До того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец – в решительное, серьезное наслаждение!» И правильно – а где ему взять других наслаждений? Радость общего и свободного труда, например, или чистую любовь, или творчество, не омраченное постоянным страхом и унижением? В гнилом-то петербургском воздухе? «Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму?» – да они две тысячи лет как изложены, и прежде человечество о них догадывалось, но подпольного человека они не устраивают, он в них не верит, он только в падении склонен их отыскивать, а там отыскивается нечто совсем иное, бесконечно уродливое. Подпольный человек только в одном бесспорный чемпион: он всегда может сделать хуже, переиродить ирода. И стать омерзительнее любого врага, и выдумать себе худшую муку – это ему тоже запросто. И этим он думает победить всех! – но ведь победа не этим достигается. И когда подпольный человек ведет пятичасовую воскресную программу о том, что мы можем быть хуже всех, а другие подпольные люди наперебой ему это доказывают – это в чистом виде «Записки из подполья» и даже «Бобок», что справедливо заметил Михаил Эпштейн, понявший наконец, кажется, что этот «Бобок» хуже «совка»; но почему эти подпольные люди во главе с главным своим писателем так уверены, что после смерти только «Бобок»? Потому что ничего другого не видели? Но ведь это очень по-русски – принимать за последнюю правду именно худшее; ведь подполье – это и есть гордиться низостью! Сегодня в это подполье загнана вся страна, исключая сравнительно немногих, и Достоевский здесь первейшее для нее утешение, но так будет не всегда, и не поколеблется ли в скором времени пьедестал национального гения, которого ныне поднимают на щит самые безнадежные из лужиных, самые бессовестные из верховенских?
Ленин называл его архискверным, и это, конечно, резкость в духе его обычных полемических приемов, когда полемика заменяется кличкой. Но если у Ленина случалась иногда верная в целом литературная догадка, поскольку критиком-то он был небесталанным, – что ж нам теперь отрицать даже здравые его мысли? Если Достоевского ругал литературный палач Ермилов – не тот ли самый палач Ермилов писал потом сдержанно-одобрительное предисловие к его десятитомнику и не потому ли, что чувствовал себя его героем? Не его ли, Федора Михайловича Достоевского, идеями вдохновлялись все авторы русской консервативной публицистики, разнообразных «Вех» либо «Из-под глыб», когда оправдывали реакцию потому лишь, что в очередной раз ничего не получилось? И не сам ли он, поэт падения и бессилия, был главным бесом того самого неосушаемого болота, в котором открылась ему высшая истина?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

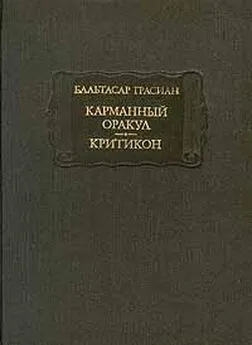
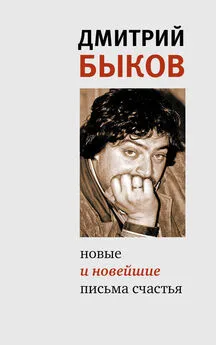



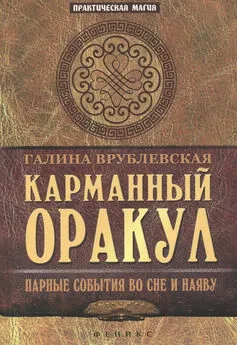
![Дмитрий Быков - Сны и страхи [Сборник]](/books/1073550/dmitrij-bykov-sny-i-strahi-sbornik.webp)