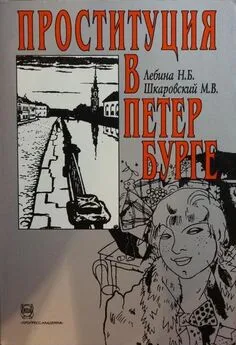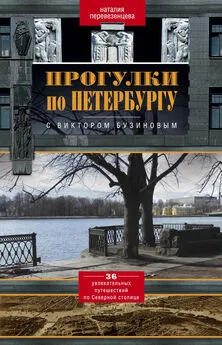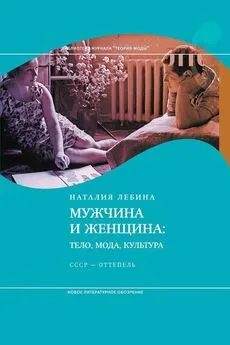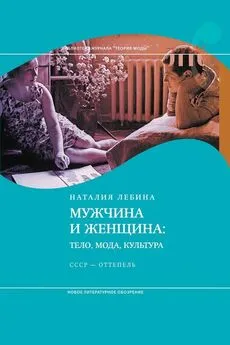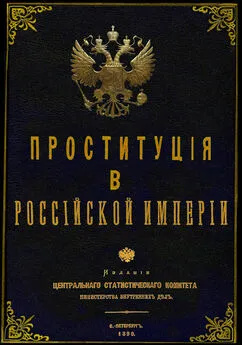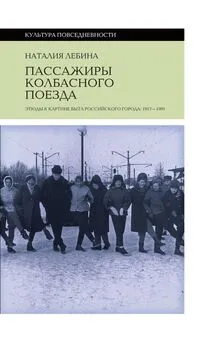Наталия Лебина - Проституция в Петербурге: 40-е гг. XIX в. - 40-е гг. XX в.
- Название:Проституция в Петербурге: 40-е гг. XIX в. - 40-е гг. XX в.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Академия
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-85864-018-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Лебина - Проституция в Петербурге: 40-е гг. XIX в. - 40-е гг. XX в. краткое содержание
Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге. М.: Прогресс-академия, 1994
Эта книга о проституции. О своеобразных взаимоотношениях: масть - падшая женщина. О просто свободной любви в царской России и о «свободной коммунистической любви» в России социалистической. Наконец, эта книга о городской культуре, о некоторых, далеко не самых лицеприятных ее сторонах. Историк Наталья Лебина и архивист Михаил Шкаровский, отказавшись от пуританского взгляда на проблему соотношений элементов культуры и антикультуры в жизни города, попытались нарисовать социальный портрет продажной женщины в «золотой век» российской проституции на фоне сопутствующих проституции явлений - венерических заболеваний, алкоголизма, преступности. Проституция, по их мнению, как лакмусовая бумажка, позволила выявить многие закономерности и деформации в развитии общества как в дореволюционной России, так и в советскую эпоху.
Проституция в Петербурге: 40-е гг. XIX в. - 40-е гг. XX в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 50—80-х гг. XIX в. петербургский обыватель был довольно мирно настроен по отношению не только к административно-врачебным организациям, но и к полиции. Общий стиль городской жизни отличался размеренностью. Нарушающие этот порядок уличные женщины, за которыми охотились в первую очередь агенты Врачебно-полицейского комитета, в понимании петербургского обывателя, являлись персонами, достойными порицания. Считалось, что только проститутки переносят венерические заболевания. Письма с подобными жалобами поступали и во Врачебно-полицейский комитет, а в пункты осмотров проституток жители окрестных улиц обращались еще чаще. Довольно характерным примером может служить письмо обывателей Большой Мещанской, просивших в 1889 г. убрать с улицы заведение мадам Жозефины, судя по всему, публичный дом средней руки, так как «в сточных водах скапливается большая зараза от мытья девиц» [182] ЦГИА СПб., ф. 569, оп. 17, д. 83, л. 6.
. Врачебно-полицейский комитет в данной ситуации представлялся радетелем за интересы здоровья горожан, а его агенты — желанными фигурами, которые освобождают город от «заразы». И это было не так уж далеко от истины. Многогранная деятельность комитета говорила сама за себя, но все-таки главенствующим оставалось медико-профилактическое направление, эффективность которого не вызывает сомнений и сегодня. Современники тоже довольно высоко оценивали работу врачей, привлекаемых для осуществления надзора за проституцией. Об этом, в частности, говорилось на Первом Всероссийском съезде по борьбе с сифилисом в 1897 г. [183] См: Штюрмер К. Л. Проституция в городах // Труды Высочайше разрешенного съезда по обсуждению мер против сифилиса в России. Т. I. СПб., 18 с. 13-18.
Однако под влиянием демократических настроений в начале XX в. стало уже «неприличным» осуждать проститутку, и общественный статус Врачебно-полицейского комитета заметно снизился. Его агентов нередко приравнивали к филерам. Общественность почему-то сосредотачивала свое внимание в основном на административно-розыскных функциях организации. Немаловажную роль сыграли в этом и прогрессивные российские писатели. С каким презрением писал А. И. Куприн в «Яме» о враче Клименко! По его характеристике, это «старый, опустившийся, грязноватый, ко всем равнодушный человек…», который никогда не думает, что перед ним живые люди, а «он является последним и самым главным звеном той самой странной цепи, которая называется узаконенной проституцией» [184] Куприн А. И. Соч. В 6-ти тт. Т. 5. М., 1958, с. 291—292.
. Суровый приговор служащим Врачебно-полицейского комитета вынес в романе «Воскресение» Л. Н. Толстой. Ему явно не симпатичны «находившиеся на государственной службе чиновники, доктора-мужчины, иногда серьезно и строго, а иногда с игривой веселостью, уничтожая данный от природы для ограничения от преступления не только людям, но и животным стыд, осматривали женщин и выдавали им… патент на продолжение преступлений, которые они совершали со своими сообщниками в продолжение недели» [185] Толстой Л. Н. Собр. соч. В 14-ти тт. Т. 14. М., 1953, с. 14.
.
Пренебрежение такого рода близко к свойственному российскому городскому менталитету негативному восприятию всех административных структур, деятельность которых носит регламентирующий характер. Однако оснований для подобного отношения не было. Ведь именно из числа служащих Врачебно-полицейского комитета вышли крупные исследователи-практики, осветившие проблем проституции в России. В их ряду следует прежде всего назвать A.И. Федорова, П. Е. Обозненко, К. Л. Штюмера. Они делали огромное и важное дело — налаживали систему надзора за распространением венерических заболеваний в городе. Действительно, все положения о Врачебно-полицейском комитете включали в себя в первую очередь подробные описания организации медицинского надзора за проституцией. Административно-карательные функции носили подчиненный характер. Это отчетливо видно из документов, регламентировавших надзор Врачебно-полицейского комитета в 40—60-х гг., и из позднейших законодательных актов. Для примера стоит привести циркуляр министра внутренних дел от 26 октября 1851 г., который очерчивал следующие — в порядке важности — направления организационной работы Врачебно-полицейского комитета:
1) «составление списков публичных женщин»; 2) «врачебное освидетельствование этих женщин»; 3) «лечение выявленных больных»; 4) «выяснение у больных мужчин, где заразились»; 5) осмотр «на предмет болезней всех задержанных полицией представителей низших классов» [186] Штюрмер К. Л. Указ, соч., с. 13.
. И в дальнейшем на первый план выдвигалась медико-охранительная сторона деятельности Врачебно-полицейского комитета. Об этом, в частности, свидетельствует отчет комитета за 1914 г., где выделялись основные аспекты его деятельности: «1) производство медицинских осмотров женщин, состоящих под надзором комитета и так называемых «комиссионных»; 2) наблюдение за аккуратной явкой проституток на врачебные осмотры; 3) принятие мер к розыску и доставлению в комитет проституток, уклоняющихся от явки на осмотр; 4) подчинение надзору женщин, занимающихся промыслом разврата; 5) освобождение проституток от врачебных осмотров и от подчинения комитету; 6) привлечение к судебной ответственности» [187] ЦГИА СПб., ф. 513, оп. 162, д. 109, л. 162.
. К суду привлекались следующие лица: «а) проститутки, уклоняющиеся от явки на медосмотр; б) содержатели незаконных притонов; в) женщины, занимающиеся промыслом разврата, но не желающие подчиняться надзору комитета».
Этот документ, относящийся к последним годам существования Врачебно-полицейского комитета, позволяет обратить внимание читателя на чрезвычайно важный аспект взаимоотношений института продажной любви и общества, а именно на проблему правовой ответственности за проституцию. Как известно, до создания в Санкт-Петербурге Врачебно-полицейского комитета блуд в России являлся уголовным преступлением, что было даже зафиксировано в Уложении о наказаниях 1845 г. Последнее, в частности, предусматривало наказание за открытие публичного дома — сначала в виде штрафа, затем тюремного заключения от 6 месяцев до 1 года. Лица женского пола «за обращение непотребства в ремесло» подвергались аресту от 7 дней до 3 месяцев, «смотря по обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим их вину».
Таким образом, существование Врачебно-полицейского комитета на первых порах как бы входило в противоречия с действующим законодательством. Л. А. Петровский, предвидя данный юридический нонсенс, неоднократно обращался к Николаю I с просьбой о смягчении преследования проституции. Предполагается, что это ходатайство было негласно удовлетворено. Однако закрепленная российским законодательством ответственность за торговлю любовью формально просуществовала почти до конца XIX в. и была отменена лишь в 1891 г. постановлением Уголовного кассационного Департамента Правительствующего Сената. Наказание за превращение «непотребства» в ремесло заменялось ответственностью за несоблюдение правил о регистрации проституток. Тем самым лишь закреплялось уже осуществлявшееся на деле терпимое отношение к институту проституции в России, и прежде всего в Санкт-Петербурге. Последнее вовсе не означало, что официальные властные структуры покровительствовали развитию системы продажной любви, как это долгое время пытались представить либерально настроенная интеллигенция в России того времени и тем более идеологи и исследователи советского периода. До конца XIX в. параллельное существование двух, как бы взаимоисключающих друг друга юридических норм — наказания за блуд и положения о регламентации — создавало дополнительные гарантии их действенности. Иными словами, женщина оказывалась перед выбором: свобода, чреватая опасностью уголовной ответственности, или регистрация с ограничением гражданских прав, но гарантированным освобождением от наказания. Вероятно, поэтому в 40—90-х гг. надзор за проституцией осуществлялся довольно успешно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: