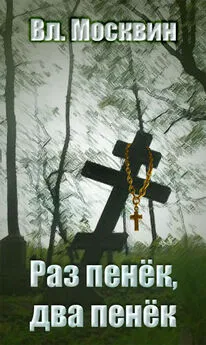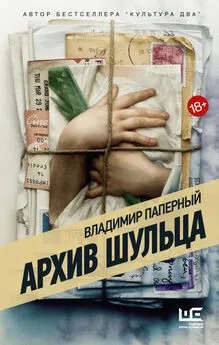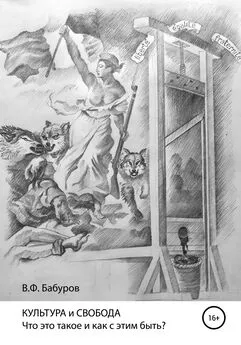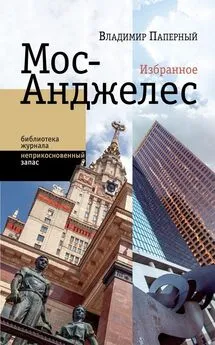Владимир Паперный - Культура Два
- Название:Культура Два
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0460-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Паперный - Культура Два краткое содержание
В ставшей бестселлером работе Владимира Паперного, название которой давно стало в искусствознании общеупотребительным понятием, на примере сталинской архитектуры и скульптуры исследуются смысловые и стилевые особенности тоталитарной культуры. Издание снабжено многочисленными иллюстрациями.
Культура Два - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В июне 1935 г. в Москве было закончено строительство дома общества политкаторжан – Дом каторги и ссылки по проекту Весниных, строительство было закончено как раз к ликвидации самого общества политкаторжан (СЗ, 1935, 3, 299). «Такой дом, – писал архитектурный журнал, – может быть построен только в стране победившего пролетариата. Подрастающее поколение, не видевшее живого городового, не испытавшее гнета царизма и капитализма, будет знакомиться в Музее каторги и ссылки с казематами Петропавловки, Шлиссельбурга, с тюрьмами Нерчинской каторги, с многочисленными каторжными централами, построенными после подавления революции 1905 г., с ужасами ссылки Туруханки, Колымы и прочих весьма отдаленных мест» (СМ, 1935, 6, с. 28). Житель культуры 2 мог участвовать в коллективных жертвоприношениях, мог требовать уничтожения «вредителей», но он не мог задумываться над вопросом: а что происходит с вредителями после их разоблачения. Мир Добра и мир Зла существовали в культуре в разных измерениях. Мир Зла – это был кромешный мир, не имеющий места в реальном географическом пространстве. Разоблаченный вредитель автоматически переходил в мир Зла, и искать его здесь, на земле, было бессмысленно. По гениальному выражению Петра, каторжник был «подобно якобы умре» (ПСЗ, 6, 3628). Человек культуры 2 мог знать, что тот или иной вредитель (допустим, его родственник) находится на Колыме, но Колыма при этом была для него лишь музейным экспонатом, местом, где когда-то происходили ужасы каторги и ссылки. В данном случае между той и этой Колымой не было не только «тождества по существу», но и каких бы то ни было точек соприкосновения.
Общество политкаторжан и его члены были уничтожены культурой, по-видимому, потому, что эти люди не были способны впасть в требуемое состояние страсти, их мышление обладало некоторым иммунитетом против мифологических элементов – они слишком хорошо знали географию страны и слишком хорошо знали, что обычно происходит в стране с теми, кто враждебен господствующей культуре, и это знание сделало «вредителями» и их самих.
Если профессионал сумел зажечь в себе требуемую страсть, тогда он становится полноценным членом фольклорного коллектива, и тогда было уже неважно, какие именно формы он принес с собой. Днепрогэс (Веснина, Колли и др.), Наркомзем (Щусева), Ростовский театр (Гельфрейха и Щуко) были канонизированы новой культурой потому, что их авторы сумели впасть в требуемое мироощущение (конечно, в разной степени: к Колли, например, это относится в полной мере, к Веснину – с большими оговорками). Конструктивистские формы их произведений отнюдь не были препятствием для канонизации. Формы вообще не имели никакого значения. Важно лишь, чтобы не было «рафинированной стройности форм того или иного стиля» и чтобы «старая система форм» не применялась «без изменений», поскольку это, с точки зрения культуры, ведет к «противоречию с содержанием произведения, с его назначением, с его структурой» (АС, 1941, 2, с. 40 – 41).
Надо было брать все, но ничего не оставлять в чистом виде. Надо было «переплавить старые формы, вложить в них новое идейное содержание» (АС, 1939, 8, с. 36). Форма должна соответствовать содержанию. Содержанием эпохи было завершение всех традиций и конец истории. Поэтому в главных сооружениях должны были слиться воедино все формы и все традиции. В своем пафосе завершения культура хотела включить в себя не только все традиции, но антитрадиционность предыдущей культуры. «У Жолтовского как у живого носителя классического наследия, – говорил А. Мордвинов, – мы можем очень многому научиться. Есть большие достижения у Весниных, у Гинзбурга – эти достижения современности мы тоже должны освоить» (Уроки, с. 12). Формула, которая вызывала протест у Гинзбурга, – ни то, ни другое, ни третье – в конце концов означала: и то, и другое, и третье, но пронизанное и спаянное чем-то иным. Это тоже свидетельство фольклорности культуры. В народном искусстве не возникает задачи гармонического соединения разных элементов, заимствованных в разных местах форм. Формы легко заимствуются и легко переплавляются. Гарантией «переваривания» чужих форм народным искусством служит непонимание их языка. Почему осуждается исключительная ориентация на традицию Греция – Рим – Ренессанс? Потому что эта традиция слишком хорошо усвоена архитектурой, ее язык слишком хорошо известен архитекторам. Используя формы только этой традиции, архитектор невольно начинает говорить на языке профессиональной архитектуры.
М. Гинзбург когда-то писал: «Архитектура Китая или Индии… в сущности своей чужда нам», потому что «не разгаданы ее композиционные методы» (Гинзбург, 1923, с. 277). Вот именно поэтому-то культура так настойчиво стремится включить эти формы в свой арсенал. Неразгаданность методов – гарантия незнакового понимания форм и легкости их сплавления в горниле народного творчества.
«Гвоздь в гроб конструктивизма» – дом Жолтовского на Моховой в конце концов почти отвергается культурой из-за стерильности палладианства Жолтовского. Стоило И. В. Жолтовскому ввести туда еще, скажем, китайские мотивы (а еще лучше, чтобы это сделал кто-то другой, а еще лучше, чтобы дом имел иерархическое строение, чтобы он был вертикален, чтобы завершался человеческой фигурой, чтобы за ним стоял вербальный текст и т. д.) – дом мог бы стать знаменем новой культуры.
Из осуществленных культурой в натуре сооружений таким знаменем можно считать, пожалуй, здание Университета на Ленинских горах. По какому-то недоразумению Альдо Росси причисляет это здание к «монументам современной архитектуры» (Jencks, с. 91). На самом деле сооружение не имеет к профессиональной архитектуре никакого отношения – его скорее следует рассматривать в одном ряду с «Илиадой», «Махабхаратой», «Калевалой» или «Беовульфом». В крайнем случае можно пойти на то, чтобы сопоставить его со строительным фольклором Индии, Египта или Вавилона.
И все-таки наиболее близкий аналог Московскому университету – это русский строительный эпос, и прежде всего собор Василия Блаженного, или Покрова на рву (1555 – 1561). Оба должны были символизировать недавно одержанные победы, оба представляют собой, как писали про собор в конце XIX в., «пирамиду, состоящую из диковинных форм и диковинных пространств», оба устремлены ввысь, оба вербальны – приделы храма тематически связаны с разными этапами завоевания Казани, а в композиции МГУ, во-первых, изображено ступенчатое восхождение знания к имени (изображенному шпилем), во-вторых, «воплощены народность, гуманизм и прогрессивное значение социалистической науки» (ГХМ, 1949, 7, с. 5), – оба сооружения подчеркнуто цветные, причем в обоих первоначально преобладала красно-белая гамма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
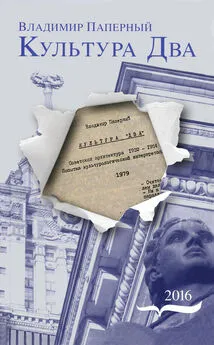
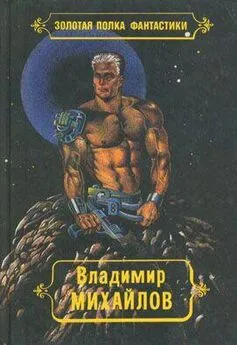
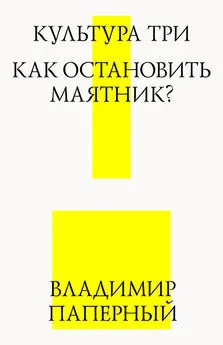

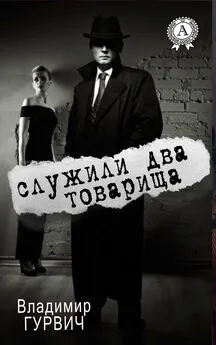

![Владимир Паперный - Архив Шульца [litres]](/books/1145481/vladimir-papernyj-arhiv-shulca-litres.webp)