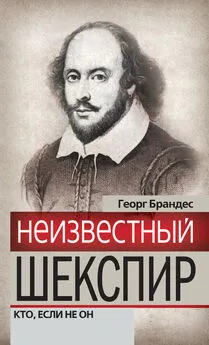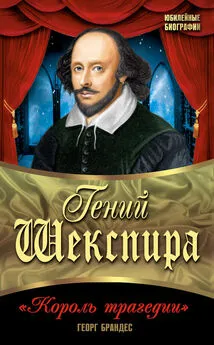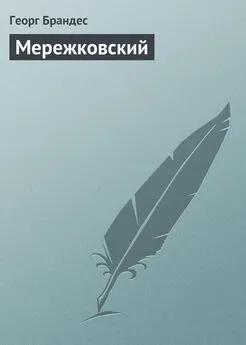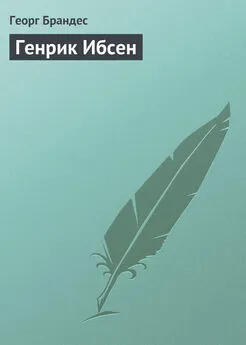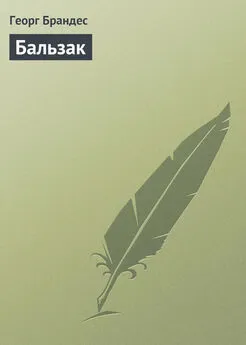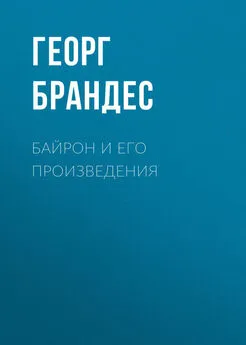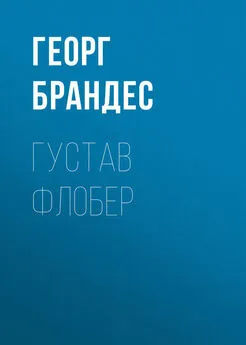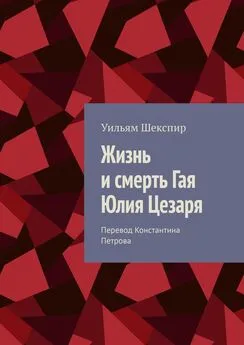Георг Брандес - Шекспир, Жизнь и произведения
- Название:Шекспир, Жизнь и произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георг Брандес - Шекспир, Жизнь и произведения краткое содержание
Шекспир, Жизнь и произведения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Говоря это, мы, конечно, не имеем в виду непоследовательности, встречающиеся в характере главного действующего лица драмы - Кориолана; они делают его еще более живым и правдивым; поэт или бессознательно выдвинул их, или был слишком гениален, чтобы их избегать. Так, например, когда Кориолан до последней минуты отказывается просить голосов у народа, он высказывает следующую мысль (II, 3)
Таков обычай
Но если бы обычаю во всем
Повиновались мы, никто не смог бы
Пыль старины сметать, а правде века
Сидеть бы за горами заблуждений
Кориолан не чувствует, что этой сентенцией он подрывает самый корень всей ультраконсервативной государственной мудрости, которую он исповедует. Ведь именно этого Кориолан и не хотел понять, что если мы во всех пунктах будем следовать нравам и обычаям, то никогда не разделаемся с заблуждениями прошлого, никогда не взорвем заграждающие нам путь горы предрассудков, и не только это, но никогда не сметем даже пыли, извращающей и пятнающей разум минувших времен. Для Кориолана то, что освящено давностью, всегда является справедливым. Он сам не чувствует того, что его пренебрежение к личностям народных трибунов и к широким слоям населения заставило его занять позицию, неустойчивую и непрочную в политическом смысле, - читатель не может быть вполне уверен в том, что Шекспир чувствовал здесь глубже и острее, чем его герой. Но сознательно или бессознательно, он, во всяком случае, вложил в душу своего героя эти придающие ему столько жизни непоследовательность и противоречие.
В пьесе "Троил и Крессида" било ключом презрение к женщинам как женщинам, к эротике как комической и низменной чувственности, к лживой геройской славе и поддельному воинскому величию. В "Кориолане" бьет ключом презрение к народу, к простолюдину как толпе и массе, к глупости и непостоянству невежд, к трусости и неблагодарности рабских душ, к низости их предводителей.
Но страстное презрение, наполняющее душу Шекспира, еще в третий раз делает размах, и всего сильнее, всего необузданней вспышка его разражается в том произведении, к которому он теперь приступает. Взрыв в "Тимоне" направлен не против отдельного пола, не против отдельного сословия, не против отдельного народа, не против отдельного класса или отдельной дроби человечества. Он проистекает от чистого, ничего и никого не исключающего презрения к людям.
ГЛАВА LXXI
"Тимон Афинский". - Человеконенавистничество.
"Тимон Афинский" дошел до нас в весьма плачевном виде. Текст зачастую ужасен и, кроме того, между отдельными сценами, порой между отдельными страницами, есть такие коренные различия в стиле и во всем тоне пьесы, что их нельзя объяснить, исходя из предположения, что все написано одним автором. Нередко завязываются нити, которые вскоре обрываются; немало таких пунктов, где встречаются или упоминаются обстоятельства, не подготовленные раньше. В самых лучших местах обработка стиха решительно изобличает руку Шекспира и относится к этому наиболее богатому идеями периоду его жизни; в других же стих небрежен, вял, немелодичен и отчаянно монотонен; но в особенности диалог в прозе по своей растянутости и изысканности зачастую так плох, что коробит читателя, между тем как вставлен он в твердо сплоченные, энергические сцены.
А потому в наши дни все исследователи пришли к соглашению относительно того, что в "Тимоне" (как и в "Перикле") мы имеем перед собою лишь крупный шекспировский отрывок.
"The Life of Timon of Athens" впервые напечатана в старейшем издании in-folio 1623 г. Если мы раскроем ее, то нас поразит тот странный факт, что эта пьеса, помещенная между "Ромео и Джульеттой" и "Юлием Цезарем", начинается четырьмя страницами, перенумерованными: 80, 81, 82, 83 вместо 78, 79, 80, 81 и кончается на странице 98. Вслед за тем имена актеров, место для которых всегда отводится не иначе, как в обрезе, занимают собою всю 99-ую страницу, а стр. 100 остается чистой. Тотчас после того начинается "Юлий Цезарь", на первой странице которого стоит цифра 109. Флей верно заметил, что "Троил и Крессида", пьеса, как мы видели, не перенумерованная по страницам, как раз заполнила бы место от 78-ой до 108-ой страницы. Кроме того, еще вследствие ошибки, дающей известное указание, вторая и третья страницы ее помечены цифрами 79 и 80. Таким образом, очевидно, что издатели первоначально "Троила и Крессиду" хотели включить в число трагедий, потом заметили, что в действительности в этой пьесе нет ничего трагического, и так как "Юлий Цезарь" был, вероятно, уже отпечатан, стали искать какое-нибудь другое трагическое произведение, которое могло бы так или иначе заполнить место, случайно оставшееся свободным.
Шекспир напал на этот сюжет во время своих подготовительных работ к "Антонию и Клеопатре". У Плутарха в жизни Антония есть сжатое описание Тимона и его человеконенавистничества, его отношений к цинику Апеманту и Алкивиаду, история о смоковнице и текст двух его эпитафий, встречающихся в "Тимоне Афинском". Этот сюжет, очевидно, привлек к себе Шекспира благодаря своему соответствию с его собственным удрученным и возмущенным основным настроением в эти годы, и он начал углубляться в него. Он ознакомился тем или другим путем с не переведенным еще в то время диалогом Лукиана "Тимон", где было немало штрихов, которые могли придать истории полноту, и которые он мог присвоить себе: рассказ о том, как Тимон находит в земле золото, как эта находка вновь заманивает к нему паразитов, как он их гонит прочь от себя и т. д.
Все говорит в пользу того, что путь, посредством которого Шекспир узнал все эти частности, заключался в том, что у него была перед глазами более ранняя пьеса о Тимоне, где встречались эти детали.
В 1842 г. Дейс издал найденную в рукописи пьесу "Тимон", относящуюся, по мнению Стивенса, к 1600 г. или около того и рассчитанную, по-видимому, на представление в том или другом академическом кружке. Здесь, как и у Шекспира, есть верный управитель и сцена прощального пира, заканчивающая третий акт. Но только там Тимон бросает в своих гостей камнями, разрисованными в виде артишоков, а не брызгает в них горячей водой. Впрочем, в шекспировском "Тимоне", в заключительных строках третьего действия, сохранились следы этого этюда: {Отрывки из "Тимона" приводятся в переводе П. И. Вейнберга.}
2-й гость. Он бешеный.
3-й гость. Моя спина про это знает.
4-й гость. То золото дарит, то камнями бросает.
И в этой, совсем однако ничтожной пьесе, Тимон находит золото. Покинувшая его любовница возвращается тогда к нему и хочет снова ему принадлежать; он с презрением прогоняет ее, как и всех других, кто является к нему, и восклицает: "Зачем, фурии, терзаете вы меня? Призываю всех богов в свидетели, что я ненавижу имя друга, отца или товарища. Я проклинаю воздух, которым вы дышите, мне противно, что я сам должен вдыхать его!" Но вслед за тем, в эпилоге, он крайне наивно объявляет, что в нем совершился полный переворот. "Теперь я один. Это сборище подлецов оставило меня в покое. Но что это значит? Я чувствую внезапную перемену. Моя ярость улеглась; мое сердце смягчается и отрекается от своей ненависти". Затем он кончает еще наивнее просьбою об аплодисментах: "Пусть любящие руки громкими рукоплесканиями призовут Тимона обратно в город".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: