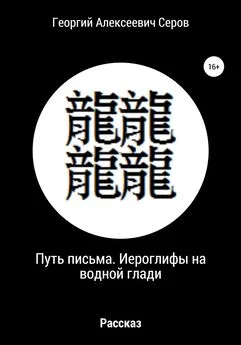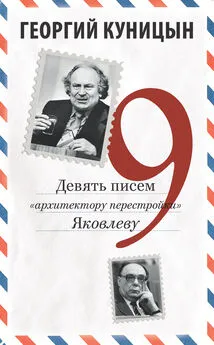Георгий Куницын - Открытые письма «архитектору перестройки» А.Н. Яковлеву
- Название:Открытые письма «архитектору перестройки» А.Н. Яковлеву
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Куницын - Открытые письма «архитектору перестройки» А.Н. Яковлеву краткое содержание
Открытые письма «архитектору перестройки» А.Н. Яковлеву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но продолжу сюжет. Спасает ли тебя от нравственного суда то, что ты (может, даже и искренне) перешел вновь на другие позиции? Вновь. Жизнь, конечно, изменилась, и — взгляды изменились... Человек волен менять свои взгляды — верно! Ну а если все-таки и новые взгляды тоже не соответствуют долгу перед высшим судом совести? А ведь есть этот долг.
Обращаюсь к самым авторитетным для человечества этическим учениям.
И.Кант, разумеется, не делал исключений — никаких — в применении сформулированных им нравственных норм — ни королям, ни присущим всякой эпохе «архитекторам перестройки». Он писал очень сложно, но безукоризненно по смыслу. Давай же вдумаемся, тем более что и тебя более уже не защищает высокое положение от ответственности за игнорирование общечеловеческих истин.
И.Кант учит: «Каждая вещь в природе действует по законам. Только разумное существо имеет волю, или способность поступать согласно представлению о законах, то есть согласно принципам. Так как для выведения поступков из законов требуется разум, то воля есть не что иное, как практический разум. Если разум непременно определяет волю, то поступки такого существа, признаваемые за объективно необходимые, необходимы также и субъективно, то есть воля есть способность выбирать только то, что разум независимо от склонности признает практически необходимым, то есть добрым».
Однако воля человека не есть самый решающий фактор, ибо существует и фактор, который выше воли. «Представление об объективном принципе, поскольку он принудителен для воли, называется велением (разума), а формула веления называется императивом» — таков комментарий самого Канта. Он поясняет, что все императивы выражаются через долженствование. В этом и выражается отношение объективного закона разума к такой воле, если она по своему субъективному характеру не определяется именно этим законом.
Всякие соображения личной «пользы» (личной!) тут, стало быть, начисто отбрасываются. Нравственный закон (императив) повелевает всем на свете вообще. Должен повелевать. Он и есть практический разум человечества. Разум поступков.
«...Практически хорошо то, — пишет Кант, — что определяет волю посредством представлений разума, стало быть, не из субъективных причин, а объективно, то есть из оснований, значимых для всякого разумного существа как такового». Вот о сколь важных нюансах заботился гигант философской мысли.
«Из оснований, значимых для всякого разумного существа». Имеется тут в виду что? То, что нравственный закон един для всех разумных существ: и на земле, и в бескрайнем космосе... Только Бог над всем этим. Но, понятно, имеется в виду: Бог и есть Высший Разум.
Кант не забывает оттенить то, что на индивидуальную волю человека, на сами его поступки оказывают воздействие, помимо требований нравственного закона, и субъективные его потребности и влечения. «В этом состоит отличие практически хорошего от приятного, — пишет он. — Приятным мы называем то, что имеет влияние на волю только посредством ощущения из чисто субъективных причин, значимых только для того или иного из чувств данного человека, но не как принцип разума, имеющего силу для каждого» (там же. с. 251).
Но ведь как раз то, что приятно самому индивиду в процессе морального поступка, то и снимает собой долженствование. В то время как только оно, долженствование, только императивность поступка делает его моральным. То, что в интересах именно действующего индивида, что имеет именно для него значение выгоды, есть сфера прагматики, а не подвига...
У Канта следует и само раскрытие той сути общечеловеческой нравственности, которая, возможно, никогда не снилась (и не снится!) никому из людей и на Старой площади, и в Кремле, и всюду, где размещаются властные структуры.
«...Существует императив, который, не полагая в основу как условие какую-нибудь другую цель, достижимую тем или иным поведением, непосредственно предписывает (!) это поведение. Этот императив категорический. Он касается не содержания поступка и не того, что из него должно последовать, а формы и принципа, из которого следует сам поступок; существенно хорошее в этом поступке состоит в убеждении, последствия же могут быть какие угодно. Этот императив можно назвать императивом нравственности» (там же. с. 253–254).
«Последствия могут быть какие угодно». Каково? Главное — поступить согласно убеждению в том, что ты прав... А прав ты ведь только тогда, когда твое убеждение совпадает с самим законом высшей нравственности...
Так и поступает Сократ. Так и поступает Цицерон («Я сказал все и тем очистил свою душу»). Так поступают Джордано Бруно, Томас Мюнцер, Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Ян Гус, Мартин Лютер. Так поступали русские святые и праведники...
Да и в наше время подвижники встречаются. Ныне это, конечно, весьма особенные уникумы. Их число все меньше. Зато масштаб их действий не снижается: Александр Солженицын — при всем том, что с ним во многом и многие не могут согласиться, — ведь вышел же один на битву с целой системой... А Андрей Сахаров... А Александр Зиновьев... И есть другие.
Возразишь небось, что и ты тоже вышел в свой час один на один — с XXVIII съездом КПСС, на котором встретил по отношению к себе яростное неприятие агрессивного большинства? Но, дорогой мой, разве же это твое действие не было именно противоположным своей неискренностью подлинно отважному поведению только что названных мною великих носителей высшей нравственности? Конкретный мой анализ изгибов в твоей позиции далеко не закончен, но и здесь уже скажу, что не под какие категорические императивы твоя позиция вообще не подпадает. Она за пределами общечеловеческой нравственности. В ее словесном выражении заключен смысл, рассчитанный как раз на то, чтобы скрыть истинный смысл твоих взглядов.
Это обусловлено тем, что выступал ты на своем партийном съезде в 1990 году и называл себя коммунистом, а между тем перестал быть им фактически уже в 1987 году, согласно твоему же публичному признанию. Но ты так и не вышел из КПСС — ни в 1987 году, ни позже, пока тебя из нее не исключили. А когда исключили, ты сразу же стал поливать грязью не только эту партию, чего она в значительной части (в том числе и под твоим руководством) заслужила, но и сами истоки социалистической идеи, которую ты лицемерно защищал на публике еще в 1991 году.
Письмо восьмое
Как политик, ты реально находишься в ряду деформаторов самого понятия «политика».
Политика как наиболее прямая и открытая борьба различных социальных интересов между собою начиналась, как и все в обществе, в форме первобытной честности. С предупреждений, подобных «Иду на вы». Впоследствии именно честность и совестливость человеческая выработали все известные ныне нравственные императивы и в жизни, и в политике (от сократовских и христианских заповедей, завершающихся в максиме для каждого: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе», — до космической этики Канта, согласно которой нравственность, честь и совесть — это всем вообще законам закон.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: