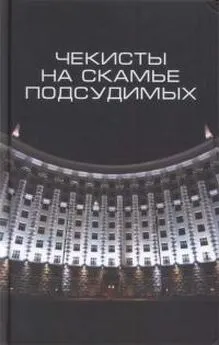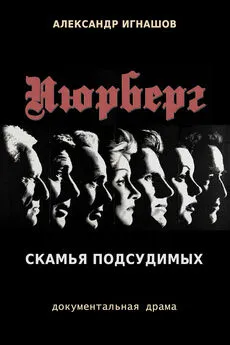Чекисты на скамье подсудимых. Сборник статей
- Название:Чекисты на скамье подсудимых. Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пробел-2000
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-98604-597-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Чекисты на скамье подсудимых. Сборник статей краткое содержание
Чекисты на скамье подсудимых. Сборник статей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Утверждая, что был лишь «слепым орудием» исполнения приказов в период беззакония, Давлианидзе в апелляции суду также утверждал, что «разоблачение» Берии в 1953 г., процесс десталинизации и критика культа личности Сталина, начатые первым секретарем КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым на XX съезде партии в феврале 1956 г., дали ему возможность понять противоправность системы, существовавшей в органах безопасности в сталинский период:
«До разоблачения в 1953-м году провокатора Берия и его сообщников я ничего не знал [о беззаконии] и не смог бы распознать этого. Степень своей виновности, как член КПСС и бывший сотрудник органов НКВД-МГБ, я понял лишь после моего ознакомления с материалами 20-го съезда КПСС […] Я же тогда всего этого, как исполнитель не сознавал, а если бы осознал, то никакого влияния не смог бы оказать, и ничего не смог бы изменить, кроме того мне вообще никто бы не поверил, и я подвергся бы только привлечению к уголовной и партийной ответственности за невыполнение приказов, инструкций и указаний НКВД-МГБ Гр. ССР и СССР а также решений ЦК КПСС и быв. руководства СССР» [1969].
Давлианидзе утверждал, что у него не было ни юридического образования ни соответствующей подготовки до того, как он начал работать в органах: «В 1952 году я начал самостоятельно изучать юридические науки. Специального юридического образования я не имею. С этого момента я стал подкованным человеком. До этого же в органах работали люди, не имеющие юридического образования» [1970].
Вместе с оправданиями, что он всего лишь исполнял приказы сверху, ничего не знал о противозаконности этих приказов и что все равно не смог бы отказаться их исполнять или сделать что-либо еще против существовавшей системы, даже если бы он понимал незаконность действий, Давлианидзе также апеллировал к менталитету или «духу времени», царившему в то время в НКВД в частности и в советском обществе в сталинский период в целом, к тому феномену, который совсем недавно стали называть «сталинской субъективностью» (Stalinist subjectivity) [1971]. Под феноменом сталинской субъективности исследователи подразумевают намерения и мотивы действий в историческом контексте сталинского общества, а также способы, с помощью которых режим инкорпорировал население посредством политики социальной идентификации и мобилизации, с одной стороны, и способы, которыми население усваивало официальный дискурс, с другой.
Учитывая чрезвычайный характер времени, как утверждал Давлианидзе, он верил в безотлагательность борьбы с «классовыми врагами» и их агентами, а также в то, что его приказы были правильны и морально оправданы: [1972]
«Как меры, диктуемые духом времени и его требованиями, в связи с чрезвычайной для СССР международной и внутренней обстановкой и близостью войны капиталистических стран против СССР, таким выступлениям [классовых врагов], как я, так и другие не имели никаких оснований не верить тогда» [1973].
«Я выполнял указания ЦК партии Грузии и Москвы, а также и наркома ГССР, и, как говорится, какова была музыка, таков был и танец» [1974].
Всевластие партийного руководства и начальства НКВД, постоянные и всеобъемлющие пропагандистские кампании против «врагов народа» и «вредителей» создавали ситуацию, в которой обычный (среднестатистический) человек волей неволей, но принимал для себя доминирующую официальную трактовку событий:
«Бывший нарком Ежов был вторым секретарем ЦК КПСС, и ему верили. Об аресте людей и применении к ним незаконных методов следствия имелось указание за подписью Ежова. Я, как и все, находился под мнимым психозом борьбы с контрреволюцией. Теперь я, конечно, на все смотрю другими глазами […] Все специальные пособия и литература, газеты и статьи шумели о контрреволюции и тем самым делали из нас послушных автоматов» [1975].
Всеохватывающий и непрестанный характер официального дискурса в условиях опасности, внешней и внутренней угрозы, заговора и паранойи позволяет предполагать, что слова Давлианидзе значат больше, чем просто попытку формально оправдаться. Официальный дискурс, как представляется, фундаментально определил категории его мышления и взгляд на реальность, так что для человека, подобного Давлианидзе, было бы очень трудно, если вообще возможно, в этой ситуации думать вне официального дискурса и независимо от него. И хотя он приводит в свою защиту довод о том, что в то время не понимал истинного смысла событий, но из смысла его утверждений (он продолжал называть реабилитированных «врагами народа», считал классовое происхождение объективной основой вины) следует, что его мировоззрение даже во время суда все еще оставалось глубоко сталинским.
Документы следственного дела Давлианидзе позволяют увидеть внутренний ведомственный климат, царивший в разгар массовых репрессий в органах государственной безопасности Грузии, а, вероятно, и в органах НКВД всего Советского Союза. Суд, в частности, выявил материалы, полученные от самого Давлианидзе и других свидетелей, о процессуальных нарушениях, принявших угрожающие масштабы. В числе таких нарушений были производство арестов без предварительного получения на то санкции прокурора, проведение допросов без санкции на арест и предъявления официально оформленных актов обвинения [1976]. Еще одним нарушением было составление протоколов допроса постфактум. Согласно правилам, следователи должны были во время допроса вести рукописные протоколы вопросов и ответов, которые затем следователь и арестованный должны были подписать, после чего протоколы необходимо было перепечатать и официально подписать. Когда обвинители на суде поинтересовались, почему в личных делах арестованных не было рукописных оригиналов протоколов допроса, Давлианидзе и другие свидетели признались, что в то время, якобы из-за недостатка времени, следователи в течение допроса лишь делали заметки (которые после выбрасывали), а затем напрямую диктовали протокол допроса машинистке [1977]. В действительности следователи часто составляли протоколы, руководствуясь своими прихотями, выбирая обвиняемых и обвинения по собственному усмотрению [1978]. Затем следователи избивали арестованных, пока те не соглашались подписать заранее составленный протокол допроса. Один из бывших сотрудников НКВД показал, что так называемые заговоры с целью убийства Берии и высших чинов НКВД были популярны у начальства, поэтому следователи старались как можно чаще включать подобные «признания» в протоколы [1979]. В 1953 г. Л.Ф. Цанава свидетельствовал: «Террор против Берия настолько вошел в быт, что считалось необходимым в каждом деле иметь признание арестованных, что они готовили теракт против Берия […]. Арестованные говорили только то, что хотел Кобулов, который заранее намечал нужные ему показания, вызывал к себе своих помощников Кримяна, Хазана, Савицкого, Парамонова и др., распределял среди них, какие показании должны им дать арестованные, и начиналась работа по выколачиванию показаний. Избивали просто до тех пор, пока арестованный не давал нужных Кобулову показаний» [1980].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: